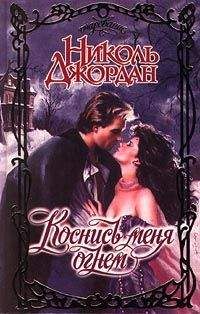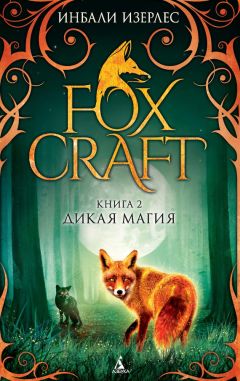Лазарь Лазарев - Записки пожилого человека
Это было мутное, дурное время в жизни Симонова — он стал проявлять такую любовь к недавнему прошлому, которой, когда оно было настоящим, у него не было. Он вдруг опубликовал в одном из своих сборников написанное в войну и никогда не печатавшееся стихотворение о Сталине — совершенно бездарное, вызывающе бездарное, не случайно он не напечатал его в войну. Он поставил у себя в кабинете фотографию сталинского монумента на Волго-Доне (правда, тут он был не одинок, — фотографию Сталина я видел в 1959 году на даче у Твардовского). Все это было явным вызовом, только не очень понятно кому и чему, наверное, тем карьеристам, которые прежде изо всех сил курили Сталину фимиам, а теперь торопливо отрекались от него. Но, вольно или невольно, это приводило к выгораживанию Сталина, сталинского режима. Свою роль тут сыграла и история с передовой «Священный долг писателя» в «Литературке», напечатанной через несколько дней после похорон Сталина, в которой говорилось: «Самая важная, самая высокая задача, со всей настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов бессмертного Сталина». По правде говоря, это было тогда не единственное выступление в таком духе. Но эта передовая попала на глаза Хрущеву, он возмутился — справедливо возмутился, — и, как это делалось при Сталине, приказал немедленно снять Симонова. Симонов, видимо, оскорбился, это тоже толкало его в оппозицию новым веяниям.
Перелом в его отношении к Сталину, сталинским порядкам, к начавшимся в стране переменам произошел после XX съезда, когда он взялся за книгу о сорок первом годе и стал разбираться в истинных причинах наших тяжелых поражений. Он понял, чего стоил стране и армии тридцать седьмой год, а литературе — постановления ЦК сорок шестого года. Но это далось ему нелегко и непросто. В стихотворении, написанном вскоре после XX съезда и напечатанном уже после его смерти, в «перестроечное» время, выразились и владевшая им в первые месяцы после смерти Сталина душевная смута и наступивший перелом:
Редактор просит выстричь прочь
Из строчек имя Сталина,
Но он не может мне помочь
С тем, что в душе оставлено.
Уж тут не до искусства;
Плохие ли, хорошие,
На то они и чувства —
Они к костям приросшие…
Кому легко все это,
Тот просто жил, чтоб выжить.
Глагола «выстричь» нету!
Другой есть, трудный, — выжечь.
Да, много выжечь надо,
И вольно ли, невольно,
Куда ни ткнешься взглядом —
Везде до кости больно.
Обратившись к Симонову с просьбой помочь пробить книгу Эренбурга, я понимал, что могу нарваться на резкий отказ или он под благовидным предлогом уклонится от участия в этом деле. Я знал, он мне говорил, что чувствует свою вину перед Эренбургом за ту статью об «Оттепели». Но люди обычно не очень-то любят, когда им напоминают об их ошибках или поступках, которых они стыдятся. К тому же были свои обиды у Симонова на Эренбурга. Об этом он тоже как-то рассказывал: в своих мемуарах Эренбург был несправедлив к нему. А в таких случаях люди нередко перестают помнить о своей вине — мол, баш на баш, квиты.
Симонова же отношение в «Советском писателе» возмутило — кроме всего прочего, он увидел в этом хамское пренебрежение памятью о войне, военными заслугами, чего он никогда и никому не спускал. Со свойственными ему энергией и упорством он взялся за это дело, обратился в секретариат правления Союза писателей и в ЦК, ходил, требовал, писал письма, написал предисловие к сборнику. Только благодаря ему книга Эренбурга вышла в свет.
О том, как непросто было пробить стену намеренного замалчивания Эренбурга в ту пору, свидетельствует письмо ко мне Любови Михайловны, в котором, благодаря за публикацию статей Эренбурга в журнале, она писала: «Я дожила до того, что волнуюсь за каждое напечатанное слово „молодого автора“».
Потом, через несколько лет я предложил издательству АПН выпустить сборник очерков и статей Симонова и Эренбурга военного времени. Симонову эта идея очень понравилась. И когда в издательстве его попросили написать к книге предисловие, он предложил свою статью 1944 года о публицистике Эренбурга, дописав как постскриптум к ней, что и сегодня не изменил своей точки зрения: ни один писатель не сделал в войну больше, чем Эренбург. Книга «В одной газете…» вышла в свет незадолго до кончины Константина Михайловича. Он лечился в крымском санатории, туда ему издательство отправило сигнальный экземпляр. Он очень обрадовался книге, она словно бы перечеркивала все, что пролегло между ним и Эренбургом, демонстрируя, что в годину жестоких испытаний они были вместе, рядом, и это самое главное. Что-то в этом роде он сказал мне, позвонив из Крыма, а кончил разговор неожиданно грустной фразой: «Подумай только, как это получилось, что наследием Эренбурга занимаемся лишь мы с тобой. А где же те, кто считался его близкими друзьями?» Почему-то мне показалось, что в этот момент он думал не только об Эренбурге…
Я рассказал об этой истории с Эренбургом, потому что это один — а их было немало — из примеров того, что свои былые грехи — «секретарского» периода деятельности — он осознавал, не склонен был себе их прощать, что бывает нечасто, а главное, старался делом их искупить, что бывает совсем уж редко…
Когда вышли три романа Булгакова в одном томе с предисловием Симонова (и опять же его стараниями. Он со смехом мне рассказывал: «Представляешь, этот идиот [речь шла о тогдашнем директоре издательства. — Л. Л.] заявил, что мое предисловие делает честь романам Булгакова»), книга эта стала бестселлером номер один. Константин Михайлович с торжеством сказал мне: «Я выбил две сотни экземпляров». Я удивился: «Зачем столько?» А он удивился моему вопросу: «Как зачем? Неужели ты не понимаешь, что каждая эта книга — место человеку в больнице, или дозарезу нужное лекарство, или жилье бездомному?» Да, хлопотал о квартире Науму Коржавину и своему однокашнику по Литинституту Валентину Португалову, возвратившимся из мест отдаленных. И Борису Балтеру помогал получить разрешение на покупку дома за городом — врачи рекомендовали ему покинуть задымленную Москву. И Надежде Яковлевне Мандельштам дал денег на кооперативную квартиру и помог ей вступить в этот кооператив. И Вере Пановой, когда она оказалась на мели, были посланы деньги, хотя она их не просила, а только объяснила, что заключила два договора на одну и ту же вещь, потому что очень нуждалась…
Могут сказать: что же здесь особенного, так и должно быть. Но в том-то и дело, что так бывает далеко не всегда. Часто ли люди состоятельные щедро помогают нуждающимся? А Константин Михайлович делал это с неизменным постоянством…
Однажды у меня с Константином Михайловичем состоялся разговор, в котором была задета и эта деликатная тема — деньги. Прочитав готовившиеся к печати его фронтовые дневники 1942–1944 годов, я сказал ему, что он не использует возможность рассказать в комментариях то, что мало кто знает: каким был тогда быт в Москве, что люди пили-ели. Ведь он оказался в особом положении — после фронтовых командировок регулярно возвращался в Москву.
Константин Михайлович ответил, что, к сожалению, ничего, заслуживающего внимания, он написать не может, потому что мало что видел. Приезжая в Москву, в редакцию, рассказывал он, отписывался, диктовал дневники, отсыпался, свободного времени почти не оставалось. А как только управлялся с делами — снова на фронт: главный редактор «Красной звезды» Ортенберг не позволял сотрудникам расслабляться. Так что быт москвичей знает плохо. На фронте харч и выпивка почти всегда были — сказывалась уже известность. А денег получали мало — и жалование было небольшое, и гонорары газетные тоже. Просто деньги были не очень нужны. «Когда в начале сорок второго мне понадобилось послать деньги родителям и сыну, которые были в эвакуации, выяснилось, что посылать мне нечего. Но кто-то надоумил меня съездить в ВОАП, по всей стране шел „Парень из нашего города“ — оказалось, что у меня лежат там очень большие деньги, прежде мне и не снившиеся. С тех пор я в общем никогда нужды в деньгах не знал. Нет, был один короткий период в жизни, когда с деньгами у меня было туго. После того, как мы расстались с Валей, у меня не осталось ни кола, ни двора. Когда я женился на Ларисе, мне пришлось купить и квартиру и дачу, истратив все, что было. И, кажется, единственный раз в жизни я не смог помочь человеку, который в тот момент в этом нуждался и которому я хотел помочь. Вспоминать об этом неприятно…»
Он не только откликался на всевозможные просьбы — бывало и сам вызывался, сам предлагал свою помощь. Узнав из случайного разговора, что у сибирского писателя Константина Седыха плохо со зрением и что ему нужны очки, которые у нас не делают — только в ГДР, он через знакомых заказал там очки, заплатил за них и, получив их, с оказией отправил Седыху. А они не были даже знакомы…