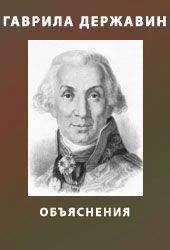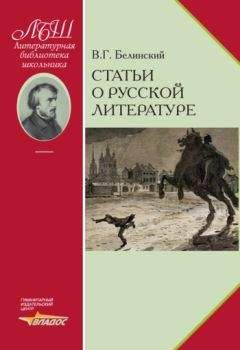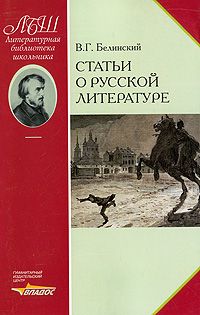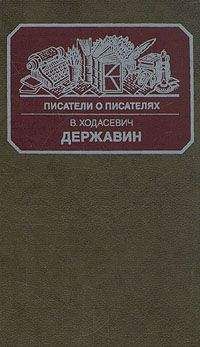Виссарион Белинский - Сочинения Державина
Замечательна и следующая строфа: поэт говорит, что ни за какие дела не стоил бы он кумира —
Не стоил бы: все знаки чести,
Дозволены самим себе,
Плоды тщеславия и лести,
Монарх! постыдны и тебе.
Желает хвал благодаренья
Лишь низкая себе душа,
Живущая из награжденья:
По смерти слава хороша.
Заслуги в гробе созревают,
Герои в вечности сияют!
Доселе говорили мы о Державине, как о русском поэте, в известной степени и в известном характере отразившем на себе XVIII век в той степени, в какой отразило его на себе тогдашнее русское общество. Теперь нам следует показать Державина, как певца Екатерины, как представителя целой эпохи в истории России.
Царствование Екатерины Великой, после царствования Петра Великого, было второю великою эпохою в русской истории. Доселе для него еще не наставало потомства. Мы, люди настоящей эпохи, так близки к временам Екатерины, что не можем судить о них беспристрастно и верно. Эта близость лишает нас возможности видеть ясно и определенно то, что обнаруживается только в одной исторической перспективе, на достаточном отдалении. И потому мы, с одной стороны, слишком увлекаемся громом побед, блеском завоеваний, многосложностию преобразований, множеством людей замечательных и не видим из-за всего этого внутреннего быта того времени. С другой стороны, справедливо гордясь нашим общественным и гражданским счастием, мы, может быть, слишком строго судим лесть, низкопоклонство, патронажество, милостивцев и отцов-благодетелей, составлявших характеристику быта того времени. Мы не можем живо представить себе тогдашнего исторического положения России, того резкого контраста между тираниею Бирона и трудным, по бесплодной, хотя и блистательной войне с Пруссиею, временем, и между царствованием Екатерины – этою эпохою блестящих и великих дел, мудрых преобразований, разумного и гуманного законодательства, которого основою было: лучше простить десять виновных, чем наказать одного невинного, возникшего просвещения и возникавшей литературы, как плодов нравственного простора, сменившего удушающую тесноту, как творения мудрости и благости, воцарившейся на троне. Близкие к тем временам, мы так далеки от них усовершенствованиями всякого рода, так горды и так счастливы великими успехами двух последних царствований, что не можем смотреть на наше прошедшее, не сравнивая его с настоящим, – а это сравнение, разумеется, выгоднее для настоящего. И потому нам теперь должно не столько судить об эпохе Екатерины Великой, сколько изучать ее, чтоб приобрести данные для суждения о ней. К числу таких данных, без сомнения, принадлежат свидетельства современников, – а всем известно, как велик был их энтузиазм к своему времени и творцу его – Екатерине. Здесь мы говорим о царствовании Екатерины только в отношении к поэзии. Поэзия Державина – самое живое и самое верное свидетельство того, до какой степени эта эпоха была благоприятна поэзии и до какой степени могла она дать поэзии разумное содержание. В этом отношении должно обращать внимание не на похвалы Екатерине певца ее, которые, как похвалы современника, не могут иметь той неоподозреваемой достоверности и искренности, как голос потомства; но здесь должно обращать внимание на ту свежесть, ту теплоту искреннего и задушевного чувства, которыми проникнуты гимны Державина Екатерине, на тот смелый и благородный тон, которым они отличаются. Итак, нам остается только выбрать те строфы из разных од его, которые представляют особенно характеристические черты громко и торжественно воспетого им царствования.
Ода «Фелица» – одно из лучших созданий Державина. В ней полнота чувства счастливо сочеталась с оригинальностию формы, в которой виден русский ум и слышится русская речь. Несмотря на значительную величину, эта ода проникнута внутренним единством мысли, от начала до конца выдержана в тоне. Олицетворяя в себе современное общество, поэт тонко хвалит Фелицу, сравнивая себя с нею и сатирически изображая свои пороки. Исповедь его заключается стихами:
Таков, Фелица, я развратен!
Но на меня весь свет похож.
Не оставляя шуточного тона, необходимого ему для того, чтоб похвалы Фелице не были резки, поэт забывает себя и так рисует для потомства образ Фелицы:
Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого;
Дурачества сквозь пальцы видишь,
Лишь зла не терпишь одного;
Проступки снисхожденьем правишь;
Как волк овец, людей не давишь:
Ты знаешь прямо цену их:
Царей они подвластны воле,
Но богу правосудну боле,
Живущему в законах их.
Ты здраво о заслугах мыслишь:
Достойным воздаешь ты честь;
Пророком ты того не числишь,
Кто только рифму может плесть;
А что сия ума забава
Калифов добрых честь и слава,
Снисходишь ты на лирный лад:
Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.
Слух идет о твоих поступках,
Что ты нимало не горда,
Любезна и в делах и в шутках,
Приятна в дружбе и тверда;
Что ты в напастях равнодушна,
А в славе так великодушна,
Что отреклась и мудрой слыть.
Еще же говорят неложно,
Что будто завсегда возможно
Тебе и правду говорить.
Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем, и вьявь, и под рукой,
И знать, и мыслить позволяешь,
И о себе не запрещаешь
И быль и небыль говорить;
Что будто самым крокодилам,
Твоих всех милостей зоилам,
Всегда склоняешься простить.
Стремятся слез приятных реки
Из глубины души моей.
О сколь счастливы человеки
Там должны быть судьбой своей,
Где ангел кроткий, ангел мирный,
Сокрытый в светлости порфирной,
С небес ниспослан скиптр носить!
Там можно пошептать в беседах
И, казни не боясь, в обедах
За здравие царей не пить.
Там с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить,
Или портрет неосторожно
Ее на землю уронить;
Там свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят,
Не щелкают в усы вельмож;
Князья наседками не клохчут,
Любимцы вьявь им не хохочут
И сажей не марают рож.{25}
Ты ведаешь, Фелица, правы
И человеков и царей:
Когда ты просвещаешь нравы,
Ты не дурачишь так людей;
В твои от дел отдохновенья
Ты пишешь в сказках поученья
И Хлору в азбуке твердишь:
«Не делай ничего худого —
И самого сатира злого
Лжецом презренным сотворишь».
Заключительная строфа оды дышит глубоким благоговейным чувством:
Прошу великого пророка
Да праха ног твоих коснусь,
Да слов твоих сладчайша тока
И лицезренья наслаждусь!
Небесные прошу я силы,
Да их простря сафирны крылы,
Невидимо тебя хранят
От всех болезней, зол и скуки;
Да дел твоих в потомстве звуки,
Как в небе звезды, возблестят.
Оду эту Державин писал, не думая, чтоб она могла быть напечатана; всем известно, что она случайно дошла до сведения государыни. Итак, есть и внешние доказательства искренности этих, полных души стихов:
Хвалы мои тебе приметя,
Не мни, чтоб шапки, иль бешмета{26}
За них я от тебя желал.
Почувствовать добра приятство —
Такое есть души богатство.
Какого Крез не собирал.
Ода «Изображение Фелицы» растянута и разведена водою риторики, но в ней есть превосходные строфы в pendant[3] к оде «Фелица», почему мы и выписываем их здесь:
Припомни, чтоб она вещала
Бесчисленным ее ордам:
«Я счастья вашего искала
И в вас его нашла я вам;
Став сами вы себе послушны,
Живите, славьтеся в мой век
И будьте столь благополучны,
Колико может человек.
Я вам даю свободу мыслить
И разуметь себя, ценить,
Не в рабстве, а в подданстве числить
И в ноги мне челом не бить;
Даю вам право без препоны
Мне ваши нужды представлять,
Читать и знать мои законы
И в них ошибки замечать.
Даю вам право собираться
И в думах золото копить,
Ко мне послами отправляться
И не всегда меня хвалить;
Даю вам право беспристрастно
В судьи друг друга выбирать,
Самим дела свои всевластно
И начинать и окончать.
Не воспрещу я стихотворцам
Писать и чепуху и лесть,
Халдеям, новым чудотворцам
Махать с духами, пить и есть;
Но я во всем, что лишь незлобно,
Потщуся равнодушной быть;
Великолепно и спокойно
Мои благодеянья лить».
. . . . . . .
Рекла б: «Почто писать уставы,
Коль их в диванах не творят?
Развратные – вельможей нравы —
Народа целого разврат.
Ваш долг монарху, богу, царству
Служить – и клятвой не играть;
Неправде, злобе, мзде, коварству
Пути повсюду пресекать:
Пристрастный суд разбоя злее;
Судьи – враги, где спит закон:
Пред вами гражданина шея
Протянута без оборон».
. . . . . . . .
Представь, чтоб все царевна средства
В пособие себе брала
Предупреждать народа бедства
И сохранять его от зла;
Чтоб отворила всем дороги
Чрез почту письма к ней писать;
Велела бы в свои чертоги
Для объясненья допускать.
. . . . . . . .
Представь ее облокоченну
На зороастров истукан,
Смотрящу там на всю вселенну,
На огнезвездный океан,
Вещающу: «О ты, предвечный,
Который волею своей
Колеса движешь быстротечны
Вратящейся природы всей!
Когда ты есть душа едина
Движенью сих огромных тел:
То ты ж, конечно, и причина
И нравственных народных дел;
Тобою царства возрастают.
Твое орудие цари:
Тобой они и померцают,
Как блеск вечерния зари.
Наставь меня, миров содетель!
Да воле следуя твоей,
Тебя люблю и добродетель
И зижду счастия людей;
Да удостоена любови,
Надзрения твоих очес,
Чтоб я за кажду каплю крови,
За каждую бы каплю слез
Народа моего пролитых
Тебе ответствовать могла,
И чувств души моей сокрытых
Тебя свидетелем звала».
«Видение мурзы» принадлежит к лучшим одам Державина. Как все оды к Фелице, она написана в шуточном тоне; но этот шуточный тон есть истинно высокий лирический тон – сочетание, свойственное только державинской поэзии и составляющее ее оригинальность. Как жаль, что Державин не знал или не мог знать, в чем особенно он силен и что составляло его истинное призвание. Он сам свои риторически высокопарные оды предпочитал этим шуточным, в которых он был так оригинален, так народен и так возвышен, – тогда как в первых он и надут, и натянут, и бесцветен. «Видение мурзы» начинается превосходною картиною ночи, которую созерцал поэт в комнате своего дома; поэтическая ночь настроила его к песнопениям, и он воспел тихое блаженство своей жизни: