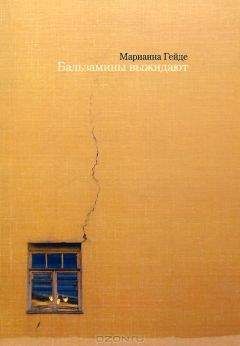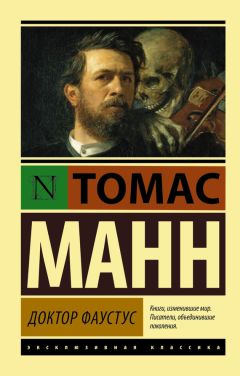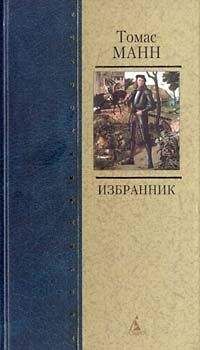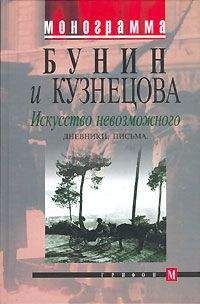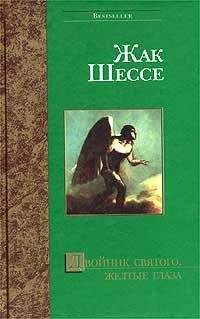Петер Надаш - Тренинги свободы
Весьма любопытно вел себя председатель суда. Человек совершенно апатичный, он время от времени все же начинал орать, хотя было видно, что ярость, которую у него вызывало дурацкое вранье подсудимого, была наигранной и приступы ее объяснялись не оскорбленной нравственностью, а желанием разрядить истерические настроения публики, что говорило о тонком психологическом чутье.
Доказать нравственную вину Саши Андерсона[2], по-видимому, тоже не составляет труда. Но меня уже и тогда, на том давнем процессе, больше интересовал тайный сговор, согласованная игра между истеричной публикой и равнодушной юстицией, между обвиняемым и обвинителем, между судьей и жертвой. Если б меня интересовало не это, я, наверное, тут же подался бы в судебные репортеры. Поскольку наверняка воспылал бы желанием сделать так, чтобы такие вот гнусные твари не совершали подобных злодейств, и с великой готовностью защищал бы наших красавиц, дабы не становились они добычей гнусных соблазнителей; и если я ни того, ни другого делать не стал, то вовсе не по моральным, а, главным образом, по эстетическим соображениям: у меня нет желания солидаризироваться ни с жаждущей крови истеричной публикой, ни с апатично-расчетливым правосудием.
Вольф Бирман[3] наверняка прав: Саша Андерсон в самом деле засранец. Наверное, можно подтвердить документами и заявление Юргена Фукса[4]: Саша Андерсон стучал на своих товарищей, закладывал их, сдавал «штази». И все же я буду последним, кто однозначно выскажется о его виновности. От категоричных суждений меня удерживает вовсе не христианское всепрощение. И тем более не какой-то моральный релятивизм — как раз наоборот. Если я не увижу взаимосвязей между истеричностью публики и апатией правосудия, между сильно дезориентированным либидо наших красавиц и непоправимыми уже деяниями этого прыщавого заикающегося вурдалака, то боюсь, что ничем не смогу поспособствовать упрочению той морали, с позиций которой только и можно судить о чем бы то ни было. Проще говоря, я и сам буду человеком пропащим, и весьма вероятно, что своим неведением, наивной истеричностью и умышленным равнодушием буду только способствовать, чтобы такие пропащие души множились.
2Саша Андерсон в одном из своих скупых откровений упоминает, что на первом допросе следователи связками ключей били его по почкам. Ему тогда было двадцать лет, говорит он. Ему было непонятно, что происходит. Отбитые почки болели. Во что бы то ни стало хотелось вырваться на свободу. Белу Caca[5] тоже били по почкам. Он тоже не совсем понимал, что происходило. И тоже очень хотел вырваться на свободу. Но один человек готов за это платить, другой — нет. Один говорит: не могу терпеть, другой: лучше сдохнуть. Когда представляешь себе подобную ситуацию, моральное чувство подсказывает, что правильнее — выбрать смерть. Однако когда мы воспринимаем мир не умом фантазирующего подростка, а имея уже некоторый опыт по части страдания и блаженства, то знаем, что решение столь мучительного вопроса зависит не только от наших моральных качеств. Я, конечно, не сомневаюсь, что лучше подохнуть героем, чем уцелеть, превратившись в моральный труп, но не могу знать заранее, способен ли я в сходной ситуации заплатить требуемую цену. И пока я не окажусь в такой ситуации, никогда не узнаю, каков я на самом деле.
Например, Иштван Эрши[6] рассказал нам, что он в этой ситуации… ухмылялся. Но заранее он ведь тоже не знал, что будет молча скалиться следователю в лицо, напротив: в этой дурацкой ухмылке, неожиданной для него самого и не упоминаемой ни в каких нравственных наставлениях, он открыл неизвестный дотоле способ сопротивления, который в чрезвычайной ситуации помог ему сохраниться как личности. Во всяком случае меня поражает, что есть человек, владеющим таким способом, но я не уверен, что нечто подобное удалось бы и мне. Я запросто могу с уверенностью думать, что окажусь подонком, или, напротив, буду стремиться не оказаться им, но мне не дано знать заранее, как я буду переносить душевные испытания и физическую боль и найду ли собственный способ защитить хотя бы свое сознание. В чрезвычайных ситуациях предателя пристреливают его товарищи, поскольку эту чрезвычайность они распространяют и на самих себя. Но при этом они получают представление не о том, каковы они сами, а, самое большее, лишь о том, каковы их намерения.
В своей книге «Воспоминания о прекрасном времечке» Эрши также рассказывает, что когда тысячи венгров сидели по тюрьмам, кто стиснув зубы, кто ухмыляясь, а кто — в качестве новоиспеченного стукача, когда людей вешали и расстреливали, весьма выдающиеся венгерские писатели и мыслители в немалом числе и по собственной воле подписали бумагу с требованием, чтобы ООН сняла с рассмотрения венгерский вопрос[7], поскольку «образование Революционного рабоче-крестьянского правительства и обращение за помощью к советским войскам избавило нашу страну от реальной угрозы со стороны набиравшей силу кровавой контрреволюции». Полагаю, что Эрши имеет право назвать имена всех 174 подписантов, однако же не считаю, что подобное право я могу распространить на себя. Самое большее, я могу задуматься над вопросом: что тогда, в тех жутких условиях, вынудило этих достойных людей подписать столь позорную бумагу? А задумавшись, наверное, вспомню, что именно в сентябре 1957 года, быть может, в тот самый час, когда эти достойные люди подписывали позорную бумагу, я вступил в Коммунистический союз молодежи.
Как такое могло случиться? Я сделал это добровольно, силком никто меня не тянул. Если бы мне не хотелось вдаваться в подробности, я бы сразу добавил, что мне тогда было пятнадцать лет. И мог бы еще добавить, что через несколько месяцев я воинственно заявил о своем выходе из рядов комсомола. Неужели, вступая, я не знал об арестах и казнях? Смехотворное оправдание. Возраст тоже не может служить смягчающим обстоятельством. Ведь всего на несколько месяцев раньше, когда я восторгался революцией, мне и пятнадцати не было. Может быть, я боялся? Ничего подобного. Или точнее было б сказать, что в комсомол меня привело осознание жутких масштабов той катастрофы — в том числе и для всякого рода социалистических и коммунистических убеждений, которую означало подавление венгерской революции? Это было бы ближе к истине. Ведь для меня революция была расчетом не с социалистическими или коммунистическими идеями, до этого было еще далеко, а с диктаторской практикой их воплощения. В комсомоле я оставался до мая 1957-го, ровно до той поры, когда понял, что его назначение состоит в реставрации той же самой диктаторской власти. Сегодняшним умом — во всяком случае до описанного момента — я могу проследить внутреннюю логику своей личной истории. Раздвоение началось позднее. Когда я безвольно метался из стороны в сторону, то полагая, что должен защищать эту антидиктаторскую революцию, то думая, что защищать нужно социалистические и коммунистические убеждения. С 1959-го я снова был членом этой организации и выбыл из нее, кажется, в 1961-м, тихо и незаметно, уже не осмеливаясь хлопать дверью. Одновременно защищать и то, и другое было невозможно. Но несмотря на это — или наряду с этим — вплоть до 21 августа 1968 года я верил, что социализм можно реформировать и диктатура не обязательно вытекает из его природы. Не то слово — как верил!
Если бы, на основе последующего опыта и сегодняшнего разумения, я пытался искать для себя оправданий, а не исследовать внутреннюю логику личной истории, то сейчас мне пришлось бы оставить в тени некоторые подробности своей жизни. И тогда коллективная память стала бы беднее — ровно настолько, сколько я утаил. Я этого не хочу. И значит, у меня уже нет причин прикрывать чужим моральным авторитетом или оправдывать ошибками других историю собственных ошибок и заблуждений. Если Вольф Бирман в произнесенной по торжественному случаю речи называет Сашу Андерсона засранцем и агентом «штази», он тем самым характеризует себя и своего оппонента, что в моих глазах не делает Бирмана ни порядочней, ни умнее, но это касается их двоих, могут драться, если хотят, на дуэли. Иное дело — и это уже не в порядке вещей, — когда бывший диссидент Юрген Фукс начинает расследование в доступном с недавних пор архиве «штази» в поисках доказательств, что Саша Андерсон был стукачем. Ибо это — во всяком случае в моем понимании — дело не пострадавшего, а полиции, прокуроров и судей. Ну а если закон не дает им таких полномочий, значит речь идет, по всей вероятности, о проблеме моральной. Но в вопросах моральных мои полномочия распространяются исключительно на меня одного. У меня нет полномочий подыскивать для других еще более смачные или более безобидные эпитеты, равно как и полномочий для поисков еще более неопровержимых улик или, наоборот, смягчающих обстоятельств.