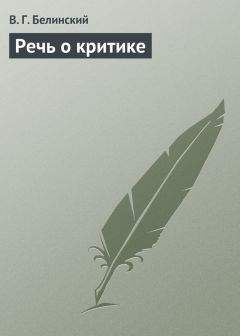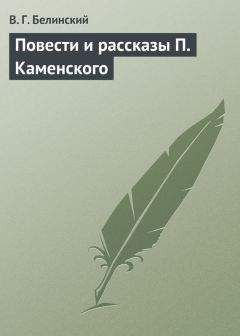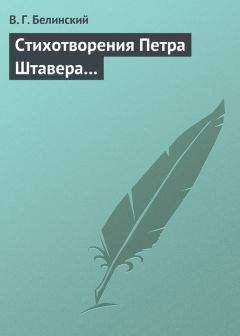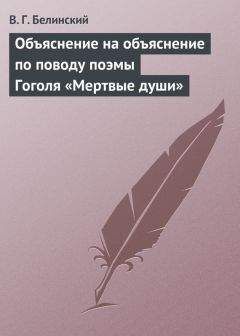Виссарион Белинский - О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя»
Я, право, не шучу. Литературные сен-симонисты нам говорят, что женщина имеет право писать, потому что она человек, что она обладает теми же способностями, как и мужчина; политические сен-симонисты опираются на том же, доказывая, что женщина должна и имеет право заниматься общественными должностями. Так как я согласен с первыми, то уж естественно не могу не согласиться со вторыми. В противном случае я показал бы, что во мне нет логической последовательности здравого смысла, а я имею большие претензии на здравый смысл. В самом деле, если эманципация, то уж полная, а то не из чего и хлопотать. Итак гг. поэты, литераторы, профессоры, судьи, генералы! будьте догадливы, будьте вежливы: place aux dames!..
После этой глубокой и прекрасной мысли г. Шевырев очень занимательно исследывает важный вопрос о том: может ли дама успеть в историческом романе, кроме «светского»: по его теории выходит, что не может, но опыт разуверил его в этом. В известном романе г-жи Коттен «Матильда или крестовые походы», в этом романе, который уж месяца два читает мой камердинер и не может нахвалиться, г. критик не; видит большого исторического достоинства, потому что в нем «чувство и воображение господствуют над историею»; он не мог иначе оценить гениального произведения г-жи Коттен и по другой еще причине; но послушаем его самого:
У меня же была еще в свежей памяти эта чудная «Елена» мисс Эджеворт, это создание нежное, идеал британской женщины. Я помню, как, читая этот роман, я, казалось, жил в лучшем обществе, где и мысли и чувства мои становились благороднее, где узнавал я силу каждого слова в общежитии и научался его взвешивать. Прочитав «Елену», я как-то почувствовал себя лучше, во мне прибыло какой-то нравственной силы для того, чтобы действовать в обществе (каком? уж, верно, в светском). Вот следствие «светского» романа, написанного пером «гениальной» женщины. (В самом деле, удивительное следствие!) Таким романом воспитывается общество (какое – светское?) и литература (какая – светская?) сильно подвигает его нравственный успех.
Г. Шевырев говорит все это не шутя; и я поговорю насчет этого без шуток. Я не восстаю против того, что он еще не забыл «Матильды» г-жи Коттен, давно уже перешедшей из гостиной в переднюю и девичью: есть что-то умилительное в защите слабого, что-то рыцарское в покровительстве тому, что всеми признано за нелепость; но мисс Эджеворт не требует особенной защиты: ее романы известны всей Европе и превозносятся до небес Бароном Брамбеусом. Я не отрицаю, что представители девичьей и передней могут становиться благороднее и возвышеннее в своих чувствах и мыслях не только от «Матильды» или «Елены», но и от Курганова «Письмовника» и романов Александра Анфимовича Орлова, но я, собственно я, а не кто-нибудь другой, могу возвышаться душою только от художественных, а не «светских» романов. Художественный и «светский» не суть слова однозначущие, так же как дворянин и благородный человек. Художественность доступна для людей всех сословий, всех состояний, если у них есть ум и чувство; «светскость» есть принадлежность и касты. Художественность есть творчество, а творчество изображает человека с его страстями, его порывами к добру и злу, его радостями и страданиями; «светскость» же уничтожает страсти, порывы, радости и горести, она подводит все это под уровень посредственности, равнодушия, ничтожности и скуки. Я этим совсем не думаю доказывать, чтобы между людьми высшего общества не было людей с душою и сердцем, людей с талантом и доблестию; подобная мысль в наше время была бы жалким и смешным анахронизмом. Я говорю не о «светских» людях в частности, а о «светском» обществе вообще, где умолкает ум, боясь оскорбить своим превосходством глупость, где притаивается чувство, боясь оскорбить приличие, где самый гений спешит принять на себя вид посредственности и ничтожества, чтоб не показаться смешным и странным. «Светскость» еще сходится с образованностию, которая состоит в знании всего понемножку, но никогда она не сойдется с наукою и творчеством: то и другое необходимо должно иссушиться и обмелеть, жертвуя своим временем на выполнение ее ничтожных условий, дыша не свойственною ему атмосферою. Аристократия таланта не есть аристократия общества: Шекспир не на паркете приобрел свой мирообъемлющий взгляд на человеческую природу; Шиллер не на паркете нашел небо и рай своих божественных видений, которые он передал нам под человеческими именами Амалий, Луиз, Текл, Карлов, Фердинандов, Поз, Максов, Телей. Роман должен быть изображением человеческой жизни, а не паркетных сплетней, и только идея человеческой жизни, а отнюдь не идея паркетных сплетней может возвысить и облагородить человеческую душу. Роман мисс Эджеворт «Елена» есть не что иное, как пошлая рама для выражения пошлой мысли, что «девушка не должна лгать и в шутку», есть пятитомный и убийственно скучный сбор ничтожных нравоучений гостиной. Говорят, что главное достоинство этого романа состоит в верном изображении всех тонкостей, всех оттенков высшего английского общества, недоступных для непосвященных в таинства гостиных. Если это так, то тем хуже для романа. Я человек не светский, следовательно, не могу понять светской стороны романа, но я всегда могу понять его человеческую и его художественную сторону. В каких бы формах ни проявлялась человеческая жизнь, она понятна всегда и для всех, потому что преходяща форма, но вечна идея эстетического творения. Прометей Эсхила, прикованный к горе, терзаемый коршуном и с горделивым презрением отвечающий на упреки Зевеса, есть форма чисто греческая, но идея непоколебимой человеческой воли и энергии души, гордой и в страдании, которая выражается в этой форме, понятна и теперь: в Прометее я вижу человека, в коршуне страдание, в ответах Зевесу мощь духа, силу воли, твердость характера. Какое мне дело, что у индийцев в дела человеческие вмешиваются боги и духи, но это мне нисколько не мешает понимать «Сакунталу». Я оставляю в стороне все индийское и вижу одно человеческое, а это человеческое равно и одинаково и у индийцев, и у русских, и у немцев. Почему ж я не понимаю «светского» в романе мисс Эджеворт? – Потому что в нем нет ничего человеческого, следовательно, ничего и художественного. Читая этот роман, я невольно твержу стихи поэта:
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой!{15}
А я могу поверить этому поэту: он знает свет не по слуху. Еще хорошо бы, если бы мисс Эджеворт представила мне свет так, как он есть, в сходстве с этим изображением, которое сделано человеком, тоже знающим свет не по слуху:
Между толпами бродят разные лица; под веселый напев контраданса свиваются и развиваются тысячи интриг и сетей; толпы подобострастных аэролитов вертятся вокруг однодневной кометы; предатель униженно кланяется своей жертве; здесь послышалось незначащее слово, привязанное к глубокому долголетнему плану; здесь улыбка презрения скатилась с великолепного лица и оледенила какой-то умоляющий взор; здесь тихо ползут темные грехи и торжественная подлость гордо носит на себе печать отвержения{16}.
Вот поэтическая сторона большого света, которую я очень люблю в художественном представлении; мисс Эджеворт уловила только одну ничтожность и скуку большого света, и потому, просим не взыскать, ее роман нам кажется и пошлым, и бесталанным, и ничтожным, ничем не выше дряхлых романов госпож Коттен и Жанлис. Мы не верим, чтоб были такие души, которые бы могли возвышаться от «Елены» мисс Эджеворт или от романов девицы Марьи Извековой.
Переходя к «Вастоле»{17}, Шевырев удивляется, как могут быть такие люди, которые сомневаются: Пушкина ли это поэма или нет. А что ж тут удивительного, если смеем спросить? На поэме стоит имя Пушкина: для меня этого довольно, чтоб иметь право приписать ему эту поэму. Вы говорите, что Пушкин не в состоянии написать такого дурного произведения: а почему ж так! Ведь он написал же «Анжело» и несколько других плохих сказок? Да и каких чудес на свете не бывает? Погодите, может быть, Пушкин подарит нас еще и октавами из Тасса. Г. Шевырев негодует на «Библиотеку» за то, что она «завлекательно объявила, что Пушкин воскрес в этой поэме (как будто бы кто-нибудь сомневался в жизни его таланта) – а кто ж, смеем спросить, не сомневался в этом?.. Разве только один «Московский наблюдатель», и то потому, что Пушкин принадлежит к числу его сотрудников? Равным образом, мы не видим ничего предосудительного и в том, что «Библиотека» стала укорять Пушкина в том, что он издал такое произведение: если позволительно упрекать книгопродавцев за издание дурных книжонок, то почему же поэт должен быть свободен от этого упрека?..
Издать дурную поэму – в воле всякого, кто имеет лишние деньги. Отчего же отнимать это право и у Пушкина? Читатель, понимающий толк в поэмах, развернув книгу, угадает, что поэма не Пушкина, и не купит ее. Тот же, который не отгадает, пусть купит: невежеству только и наказания, что остаться в накладе.