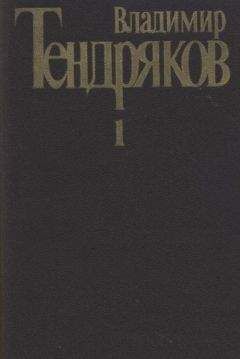Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
В статье «Нравственность и религия», которую автор не увидел опубликованной при жизни, мы находим подтверждение этой мысли: «Хотел того Толстой или нет, но в нравственном плане он выступает как противник религии… Свой знаменитый роман „Анна Каренина“ он открывает эпиграфом в виде суровой религиозно-назидательной сентенции: „Мне отмщение и Аз воздам“. То есть Толстой как бы поставил своей задачей обличить Анну Каренину, с точки зрения ортодоксальной морали безнравственную женщину, нарушившую заповедь против прелюбодеяния. Но Толстой не был бы великим художником, если б но сокрушил умозрительного моралиста Толстого. Всем ходом действия романа, незаурядностью характера своей героини Толстой-художник оправдывает Анну, вызывает сострадание к ней. Устрашающее: „…и Аз воздам!“ Нет, читатель чувствует не страх перед назидательной карой всевышнего, а неприязнь к старым, затхлым отношениям, к той ханжеской нравственности, которая опирается на обветшалые, весьма примитивные библейские понятия. Толстой верил в эти понятия, но показывал весьма сложные человеческие отношения, которые никак не могли быть объяснены ходячими трафаретами, напротив, противоречили им, опровергали их. Толстой верил в бога, но пустить его на страницы романа он тоже не мог, пришлось бы иначе показывать, что герои действуют не сами по себе, а под влиянием некоей высшей силы, а это противоречило бы правде жизни. И мораль от господа бога, возникнув в коротеньком эпиграфе, не только исчезает за ненадобностью, а сокрушается автором». (Тендряков В. Нравственность и религия. — Наука и религия, 1987, № 4.)
Верный себе, В. Тендряков ищет у Л. Толстого то, что могло бы помочь в решении современных проблем в сфере нравственности, пытается взять все рациональное, что могло бы принести пользу сегодня. Отсюда столь пристрастный целеустремленный анализ мировоззрения Толстого, отсюда надежды и разочарования.
Переписка, хранящаяся в архиве писателя, — еще одна грань освоения В. Тендряковым духовного наследия Л. Толстого. В. Тендряков особенно ценил в своих собеседниках-корреспондентах знания, живую мысль, способность смело, без начетничества воспринимать наследие великого писателя. Показательна переписка с переводчиком книг Тендрякова в Норвегии А. Д. Перминовым. «Заповедь Христа „люби“ стала широко массовой, и нет оснований считать, что подлецы люди не хотели ей следовать, хотели, да механизм, в который они стихийно составились, мог крутить только иную песню, — писал Тендряков. — Из всего этого Толстой заметил только то, что человек не хозяин своего массового поведения, его действия предопределены. Но Толстой-философ никогда не пытался вникать в сущность предопределенности, в ее внутреннюю причинность.
Наличие предопределенности, я считаю, великое открытие, которое не совсем понято и по сей день.
Толстой понимал бессилие человеческой воли и желаний, но считал — это потому, что родом людским руководит провидение, незачем в общественно-масштабном плане что-то предпринимать. Против существующего зла человеку остается одна возможность, пассивная — непротивление… Отсюда и противоречивость взглядов Толстого, болезненная противоречивость его, как человека: видный аристократ мечтает об опрощенчестве, состоятельный помещик призывает к раздаче имущества, горячий сторонник Христа не признает проповедующий учение Христа институт — церковь…
Я не могу согласиться с Толстым в предопределенности свыше, пытаюсь понять и разобраться в ней, открыть ее закономерности. Считаю: коль будут нам известны законы, то ими можно будет и пользоваться, ибо никогда открытые законы природы не оставались втуне, всегда как-то применялись. И конечно, тут у меня есть какие-то соображения, даже, смею думать, немалые…» (Письмо В. Тендрякова от 11.01.1980.)
Почти за десять лет до появления статьи «Божеское и человеческое Льва Толстого», обеспокоенный состоянием атеистической пропаганды в нашей стране, в своем письме в ЦК КПСС В. Тендряков подчеркивал, что в борьбе за верующего необходимо «подменить божеское человеческим, религиозную нравственность нравственностью, основанной на достижениях всечеловеческой культуры, несложное „возлюби ближнего“ сложными понятиями гуманизма…». «Единственная цель этих записок, — указывал он, — вскрыть опасность, которую несет в себе так называемый „воинствующий атеизм“ в том виде, в каком он сейчас существует…
И вот тут-то важно не отвергать с презрением библейскую мораль и нравственность, а пользоваться ими, развивать их от ветхозаветного примитива до той глубины, которая соответствует современности…» (Тендряков В. Письмо в ЦК КПСС от 17.10.1969, копия, архив.)
Статья печатается по тексту сборника: «Л. Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль», Институт русской литературы (Пушкинский Дом), 1979.
Проселочные беседы. — Впервые в «Литературной газете», 1981, 24 июня.
«Проселочные беседы» — воспоминания о выдающемся советском психологе, академике А. Н. Леонтьеве (1903–1979), с которым Тендрякова связывала многолетняя дружба. Они были единомышленниками. Леонтьев проверял на нем свои новые научные идеи, а Тендряков находил в Алексее Николаевиче умного и скрупулезного критика своих публицистических статей и признательного читателя. Проблемы науки всегда были близки писателю.
«Его волновали проблемы воспитания молодежи, проблемы школы, религии, судьбы социальных утопий, социальная психология, история… В этом смысле он был, на мой взгляд, один из самых широких писателей с удивительно разнообразным кругом интересов, при этом интерес его был интересом художника мыслящего — самобытно и глубоко». (Гранин Д. — Дружба народов. 1985, № 1.)
В интервью, которое дал газете «Советская Россия» (1983, 16 декабря), Тендряков говорил: «Если наше время особо интересно, то прежде всего результатами бурного прогресса науки, и особенно естественных наук: физики, биологии, астрономии. Физика открывает нам удивительные вещи, которые, ломая наши представления о природе, отражаются и на общественном сознании — это сказано не мной и давным-давно.
А писатель не может стоять вне своего времени. Поэтому не стоит удивляться моему выбору (книг для чтения. — Н. А.): если задумываться над жизнью, то человек обязан понимать науку, прикасаясь хотя бы к популярному рассказу о ней».
«Проселочные беседы» переведены в ГДР и ФРГ.
Текст печатается по сборнику «Писатель и время». М., 1983.
ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ.
Цикл «Рассказы радиста» («Солнышко», в книжном издании «Я на горку шла…», и «Письмо, запоздавшее на двадцать лет»). Впервые в журн. «Новый мир», 1963, № 9. «Костры на снегу». — Впервые в книге того же названия, 1964. «День, вытеснивший жизнь» — Впервые в журн. «Дружба народов», 1985, № 1. «День седьмой». — Впервые в журн. «Дружба народов», 1986, № 1.
Утвердилось мнение, что Тендряков, оказавшийся на войне почти с самых ее первых дней и «побывавший на самых горячих точках фронтов: в Сталинграде, потом „задел“ и Курскую дугу, где воевал на самом южном участке», писал о войне крайне мало. (Тендряков В. — Советская Россия, 1983, 16 декабря.) Почти в каждом интервью и на читательских конференциях ему неизменно задавали один и тот же вопрос — почему вы мало пишете о войне? Ответы его отличались по форме, по суть их была одной: «Тема эта для меня особенно дорогая, поэтому и храню ее столь бережно и долго» (там же).
«Когда я пришел с войны, то самым большим моим чувством было — война в прошлом, слава богу, наступил мир. А когда наступил мир, появились новые проблемы, я заинтересовался этими новыми проблемами, интересуюсь по сию пору. Все мечтаю прорваться к войне. Мечтать-то мечтаю, но современность держит меня, не отпускает… Признаюсь, я недостаточно писал о войне. Поживем, может быть, исправлюсь». (Стенограмма выступления в Московском пед. институте им. В. И. Ленина, 1982.)
В литературу В. Тендряков пришел с первым военным романом «Экзамен на зрелость», написанным в 1944 году еще в Подосиновце. Это был период ученичества, роман не был опубликован. Несмотря на то, что роман был несовершенен, автор встретил к себе доброжелательное отношение такого мастера, как Н. Атаров. «Повесть написана человеком, абсолютно не представляющим, что такое литература. Никакой школы. Полное отсутствие технических навыков. Ужасный язык… Но за всеми несуразицами и промахами — редкая наблюдательность, неподдельная искренность, живая душа. Вывод? Надо работать. Серьезно и много. Тогда может выйти толк… Атаров был первым… кто залез в неуклюжие ученические каракули Тендрякова и что-то там разглядел». (Томашевский Ю. Вчера и сегодня, Сов. писатель, 1986). Признательность к Н. Атарову Тендряков пронес через всю жизнь.
К теме войны В. Тендряков вернулся спустя много лет. И его первые военные рассказы родились из непосредственных устных зарисовок. Все они имеют реальную жизненную основу.
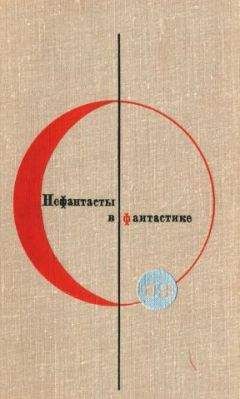
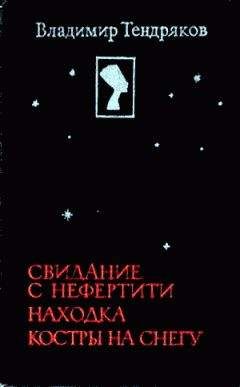
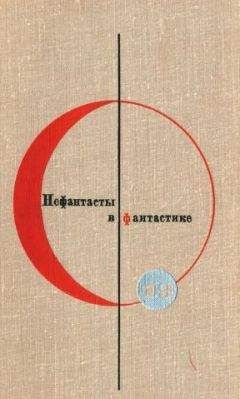
![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)