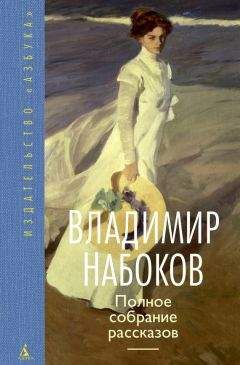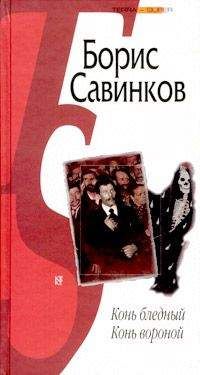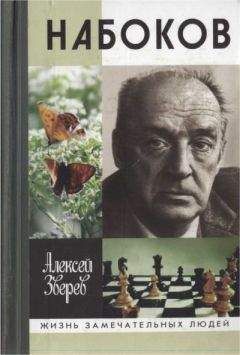Присцилла Мейер - Найдите, что спрятал матрос: "Бледный огонь" Владимира Набокова
Комментируя «Слово о полку Игореве», Набоков дает набросок той истории литературы, которая лежит в основе сложной аллюзивной игры «Бледного огня». Викинги предстают в качестве связующего звена между историей и литературой Древней Руси и Шотландии. Гипотеза, в соответствии с которой «Слово…» — это сфабрикованная в XVIII веке подделка, связывает киевский эпос XII века с «оссиановской» мистификацией Джеймса Макферсона, относящейся к тому же XVIII столетию.
В «Бледном огне» в излагаемой Кинботом генеалогии земблянского короля Карла Возлюбленного Набоков дает намек на эту связь:
…Карл Возлюбленный мог похвастаться примесью русской крови. В средние века двое из его предков женились на новгородских княжнах. Его прапрапрабабка, королева Яруга (время царствования 1799–1800) была наполовину русская, и большинство историков полагает, что единственный сын Яруги, Игорь, был не сыном Урана Последнего (время царствования 1798–1799), а плодом ее романа с русским авантюристом Ходынским, ее goliart'ом (придворным шутом) и гениальным поэтом, в свободное время подделавшим, как говорят, знаменитую древнерусскую chanson de geste, обычно приписываемую безымянному барду двенадцатого столетия (232–233, примеч. к строке 681).
Для объяснения этого пассажа следует начать с идентификации отсылок к «Слову о полку Игореве»; после этого мы сможем обнаружить переклички со «Словом…» в «Оссиане». По-видимому, «Слово о полку Игореве» было написано безымянным бардом, гениальным поэтом, в XII веке. Ученый спор о подлинности поэмы до сих пор не разрешен (и, возможно, никогда не будет разрешен), однако Набоков, как и Пушкин, был уверен в ее аутентичности[86]. Прямая отсылка в процитированном отрывке дополнительно поддерживается упоминанием имен Игоря, Ходынского и Яруги. Игорь Святославич из Новгорода-Северского (ум. 1202) был прапраправнуком Рюрика, что следует из родословной русских удельных князей, которой Набоков предваряет свой перевод «Слова о полку Игореве».
Бард Ходына, упоминаемый только в истории Игоря, был певцом при дворе отца Игоря и предшественником анонимного автора «Слова…». В «Бледном огне» Ходынский является вероятным отцом Игоря (связь барда с поэмой соответствует родству отца с сыном) и, следовательно, истинным предком Карла Возлюбленного.
Труднее обнаружить источник имени королевы Яруги — хотя оно и звучит похоже на имя Ярославна (так звали вторую жену Игоря), однако в такой форме нигде не употребляется. Зато слово «яруга» упоминается в песне трижды: это древнерусское обозначение оврага, как сообщает Набоков, «сравнительно редкое слово» (87). Использование этого слова Кинботом подталкивает нас к тому, чтобы соотнести «Бледный огонь» со «Словом о полку Игореве» (и набоковским комментарием к нему), — в противном случае эту связь смогли бы идентифицировать только филологи-русисты, вооруженные 3-м томом «Словаря древнерусского языка» Срезневского. В имени предка Карла Возлюбленного, таким образом, закодированы специфические указания на текст, время и место действия истории Игоря, которые вполне согласуются с личностью потомка новгородских князей.
Филологам-славистам хорошо известен спор по поводу подлинности «Слова о полку Игореве», которое давным-давно было объявлено подделкой, относящейся к XVIII веку. Авторство этой подделки приписывалось графу Мусину-Пушкину (обнаружившему текст «Слова…» в рукописном сборнике XVI века). В 1795–1796 годах он сделал с этой рукописи список, уцелевший во время пожара, случившегося в доме графа в 1812 году, — в отличие от манускрипта, который был утрачен. Мусин-Пушкин опубликовал «Слово о полку Игореве» в 1800 году. Набоков в своем комментарии весьма подробно рассматривает вопрос о подлинности текста. Он анализирует «тончайшую сбалансированность частей», которая «свидетельствует о выверенном художественном исполнении» (29), однородность метафорического ряда, внутреннюю игру тем, систему стилизации флоры и фауны, которая «придает событиям штрихи местного колорита» (31), — и приходит к выводу о том, что «Слово…» — это «яркое сочинение одного человека, а не беспорядочные народные напевы» (30). Он объявляет автора «Слова о полку Игореве» гением, создавшим шедевр, который «не только господствует над всеми сочинениями Киевской Руси, но и соперничает с величайшими поэтическими произведениями Европы того времени». Что же до «груза доказательств», говорящих в пользу возможной подделки, то его следует переложить «на хилые плечи недостаточной эрудиции» (34).
Таким образом, Набоков устанавливает весьма определенную связь между «Словом о полку Игореве» и «Бледным огнем», для которой его собственный комментарий служит необходимым пояснительным звеном. Теперь обратимся к шотландцам. Пассаж о «Королевском Зерцале» (72) связан с пассажем о Яруге (232) через упоминание Ходынского. Там же Кинбот говорит о некоем Ангусе Мак-Диармиде (72). Вместе эти два пассажа, вкупе с набоковским комментарием к «Слову…», увязывают культуру викингов («Королевское Зерцало») и русских (история Игоря) с шотландским фольклором. Имя Мак-Диармида, соотнесенное с темой подделок XVIII века по ассоциации с поэтом-имитатором Ходынским, намекает на Джеймса Макферсона (1736–1796), утверждавшего, что он обнаружил и перевел с гэльского на английский собрание песен древнего барда Оссиана, якобы жившего в III веке[87].
В комментарии к «Слову о полку Игореве» Набоков уделяет довольно много внимания сравнению этого памятника с подделками Макферсона. В «Комментарии к „Евгению Онегину“» он пишет о том «громадном влиянии», которое оказали «Поэмы Оссиана» как на западноевропейскую, так и на русскую литературу, в частности на «Руслана и Людмилу» Пушкина (Комм., 241–242). В обоих комментариях — к «Слову о полку Игореве» и к «Онегину» (в котором Макферсон и Оссиан упоминаются тринадцать раз) — Набоков доказывает, что «Поэмы Оссиана» послужили мостом, соединившим русскую литературу с западноевропейской через посредство французской. Особенно подробно Набоков разрабатывает важную для «Бледного огня» тему литературного взаимообогащения, рассуждая о гипотезе, согласно которой история Игоря выдумана по образцу «Оссиана»: «…эти совпадения доказывают не то, что некий русский в восемнадцатом веке последовал примеру Макферсона, а то, что макферсоновская стряпня, скорее всего, все-таки содержит обрывки подлинных древних поэм» (33). Отмечая в «Поэмах Оссиана» многочисленные речевые обороты, напоминающие стиль «Слова…», Набоков заключает: «Любопытно, что если мы представим себе русского фальсификатора 1790 года, складывающего на растворе собственного замеса мозаику из разрозненных осколков подлинных текстов, то далее нам следует предположить, будто он владел английским языком столь хорошо, что сумел воспринять особенности макферсоновского стиля…» (33).
На самом деле русские познакомились с «Поэмами Оссиана» во французском переводе Пьера Летурнера, «который, конечно же, никогда не передает ни интонаций, ни скорбного настроя, ни скупой патетики Макферсона…» (89). Набоков сравнивает «Слово…» с «Оссианом», но считает первый текст подлинным народным эпосом — в отличие от второго, разоблаченного Сэмюэлем Джонсоном как подделка еще в 1775 году. Резоны, которыми руководствуется Набоков, проводя эту параллель, станут понятны, если мы дадим описание труда Макферсона.
В Шотландии не было национального эпоса, сопоставимого со «Словом о полку Игореве», и попыткой создать его явились произведения Макферсона. Начав с изданных в 1760 году «Отрывков старинных стихотворений, собранных в горной Шотландии и переведенных с гэльского или эрского языка», он в 1762 году опубликовал шесть книг «древних песен» под названием «Фингал, или Древняя эпическая поэма в шести книгах, вместе с несколькими другими поэмами Оссиана, сына Фингала», а в следующем, 1763 году — еще восемь, озаглавленных «Темора». Макферсон стремился создать литературную основу для шотландского национального чувства во времена, когда общественный вкус после засилья неоклассицизма, проявившегося в осуществленных в XVIII веке переводах Гомера, Горация и Феокрита, стремился к простоте, к национальному и сентиментальному. В предисловии Макферсон описывает эту культурную реакцию:
Никогда благороднейшие порывы ума не процветали более свободно и вольно, чем в те времена, которые мы называем варварскими. Тот беспорядочный образ жизни и те мужественные утехи, от которых произведено слово «варварский», в высшей степени благоприятны для мощи разума, неведомой более утонченным временам. Человеческие страсти… скрываются под оболочкой форм и искусственных манер; силы души, лишенные возможности проявить себя, утрачивают свой порыв. Времена упорядоченных форм правления и изысканных манер, соответственно, предпочтительнее для тех, чей разум шаток и слаб. Неустойчивое состояние и свойственные ему потрясения дают возможность проявить себя натуре возвышенной, способной на великие деяния. В такие времена всегда побеждает достойный и никакая случайность не может привести к власти робкого и заурядного[88].