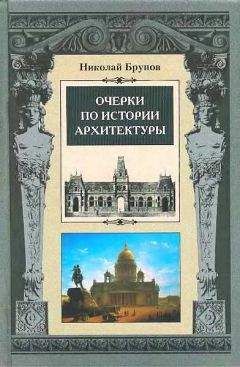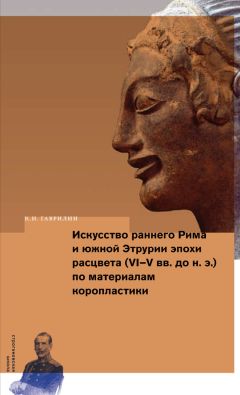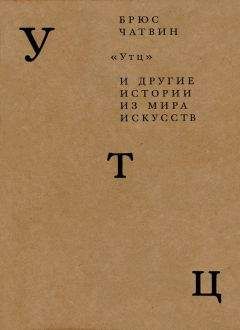Владимир Стасов - Искусство девятнадцатого века
Изображение животных достигло у французов, в течение XIX века, очень высокой степени совершенства. Многие десятки этих художников проводят годы в прилежном и строгом изучении обитателей зоологических садов — их физиономий, склада жизни и нравов, и воссоздали многочисленные фигуры и группы их с таким совершенством, какого не появлялось давно, уже со времен античного мира. Только жизнь, разнообразные позы и движения, иногда тонкие душевные настроения и чувства, — все это новая скульптура научилась передавать еще вернее и поразительнее против прежнего. Замечательнейшие французские художники в этом роде: Бари, Кен, Фремиэ, Мень. Орангутанги, львы, тигры, олени, зайцы, крокодилы, гиппопотамы, змеи, орлы, соколы, наконец, иногда и домашние животные: лошади, собаки, быки и т. д. представлены ими в бесчисленных фигурах и группах, большого и малого размера, часто с изумительным совершенством, в разные моменты их мирной или боевой жизни. Любопытны у Фремиэ, хотя бы по фантазии и странности, люди и животные доисторического времени: «Орангутанг похищает нагую женщину», «Орангутанги одолевают людей-дикарей», «Допотопные дикари побеждают медведей» и т. д.
20
Судьбы немецкой скульптуры, в течение XIX века, были совершенно иные, чем у французской скульптуры. Насколько средневековые, рыцарские отдельные фигуры, сцены, группы были редки и вялы у французов, настолько они были у немцев часты, многочисленны и, сравнительно говоря, подвижны. Мне кажется, если б можно было соединить все их вместе, они составили бы такой же громадный немецкий скульптурный музей, как французский живописный, музей в Версале. Оба одинаково обширны и многочисленны, но оба одинаково малозначительны, одинаково невыносимы, скучны и одинаково ненужны. Главное основание их — народное чванство и хвастовство, народный лжепатриотизм. Обе эти громадные массы холста, мрамора и бронзы поглотили огромные суммы денег, обе полны самохвальства, но блещут отсутствием настоящего таланта. «Валгалла», «Ruhmeshalle», «Feidherenhaile», мюнхенский дворец, наружный фасад дрезденской пинакотеки, наружный фасад берлинского старого музея, наконец, целая аллея «владык» в берлинском Тир-Гартене, все это — сооружения, битком набитые статуями и бюстами посредственного достоинства, но всего чаще полными риторичности, надутости, ненатуральности и деланности. Этими качествами (не говоря уже о целой туче бравых, деревянных, хотя и из мрамора вырубленных, генералов) особенно страдают колоссальные статуи: «Бавария» работы мюнхенца Шванталера и «Германия» (над Рейном) работы дрезденца Иоганна Шиллинга, наконец, конная недавняя статуя императора Вильгельма I (в Берлине на площади у дворца) работы берлинца Рейнгольда Бегаса, вся окруженная штыками и львами, штандартами и орлами, пушками и голыми растрепанными женщинами-аллегориями. Они созданы в стиле рококо, особенно милом Бегасу, и изображают, по мнению художника, весь комплект человеческих талантов, достоинств и добродетелей.
Из числа этих лживых гор мрамора и бронзы портретные статуи и бюсты немецких скульпторов оказываются, сравнительно, еще лучшими работами их, особливо в течение последних двух-трех десятилетий. Тут встречается иногда не только изучение натуры, но и жизни и сильное симпатичное приближение к природе. Так, например, истинно прекрасна статуя королевы Луизы Рауха, истинно характерен и жизнен бюст великого живописца Менцеля, вылепленный с натуры Бегасом и находящийся в берлинском Национальном музее. Его чудная работа напоминает лучшие бюсты с натуры итальянцев XV века; в высокой степени замечательны также по типу и выражению головы Лессинга, Шиллера и Гете в монументах Ритчеля и др. Но коль скоро немецкий скульптор задается мыслью «сочинить», «создать сюжет», он тотчас опускается в безбрежное море глубоких соображений, метафизики, хитросплетений, у него являются тотчас же «намеки тонкие на то, чего не ведает никто». Возьмите, например, такого умного, такого дельного, такого даровитого художника, как Ритчель. Его письма и дневники наполнены бесконечными рассуждениями об «идеале», об «Uridee» (праидее), о том, что такое «идеализм» и что такое «реализм», и чего именно он желает держаться; возьмите точно так же письма, разговоры и дневники другого умного, дельного и талантливого немецкого скульптора, Рауха: у этого точно так же метафизики не оберешься, а метафизика эта ни к чему лучшему не приводит его, как к ограничению и порче самого себя, к принуждению собственного своего дарования бегать в кандалах. И вследствие этой-то метафизики и праидей, вследствие ученого искания чего-то особенно глубокого и высокого, вечного и несокрушимого, немецкие скульпторы наполнили свои площади, мосты, улицы и скверы множеством Минерв и амазонок, греческих юношей и воинов, то размахивающих мечами, то раненых и падающих («Амазонка со львом» Киса, «Минерва с юношей» Вольфа и др.). Даже талантливый Арнольд Бегас, которого за его стремление к реализму немцы прозвали «Рубенсом скульптуры», всего особеннее прославился какими группами? Группой «Венера и Амур», аллегорическими (впрочем, очень красивыми) фигурами: «Лирика» и «Драма» на монументе Шиллера, реки «Эльба» и «Висла» на дворцовом колодце. Все античность да аллегория, все античность да аллегория, без них немцы ни шагу! Но немецкие писатели именно эту-то античность да аллегорию и ставили своим художникам всегда в заслугу. Они говорили (например, Любке), что Раух «каким-то дыханием античного чувства красоты всегда смягчает жесткости и угловатости временных и индивидуальных форм». Смягчает! Но хорошо ли, нужно ли «смягчать», требует ли этого настоящее, правдивое, жизненное искусство? И это — тот самый Раух, который признается у них именно главой и вершиной художественного реализма в скульптуре!
Однакоже среди всех этих заблуждений и ограничений вот какое странное явление произошло. Немецкие скульпторы, при всей даровитости разных отдельных художников, во многом и сильно уступали, в течение XIX века, французским скульпторам: у них никогда не было ни изящества в той степени, как у французов, ни того оживления и страстности, ни той увлекательности, которыми так часто отличались французы. И при всем том нельзя не видеть, что лучшие и значительнейшие монументы, какие только появились в Европе в продолжение XIX столетия, созданы не французами, а немцами. Это: колоссальная конная статуя Фридриха II в Берлине работы Рауха и колоссальная статуя Лютера в Вормсе работы Ритчеля. Обе были созданы во второй половине столетия: первая в 1851, вторая в 1868 году. Оба художника были всю жизнь великие друг с другом приятели и единомышленники; оба создали нечто великое и высокозамечательное. Правда, у обоих вышли эти два монумента далеко не вполне хорошо. Многочисленные барельефы на пьедесталах, бесчисленные фигуры внизу, под главными статуями и вокруг них, оставляют желать еще многого. На монументе Фридриха II — его фельдмаршалы, генералы, министры, чиновники, ученые, литераторы и художники, на монументе Лютера — его современники и товарищи по делу: Меланхтон, Рейхлин, Виклеф, Гусс, Савонарола, женские аллегории городов — ординарны и мало удались авторам. Не было бы, кажется, большой потери, если б этих скульптур вовсе не было на свете. И что же! Не взирая на такие крупные недостатки, не взирая на отсутствие французской грации и подкупающей общедоступной привлекательности, обе главные фигуры этих немцев истинные chef d'oeuvre'ы по созданию, по типу, по характеру, по глубокому выражению, по правде. Фридрих II — старый, согнутый годами, но хитрый, повелительный, насмешливый, сухой, бессердечный тиран и давитель, с палкой на ремешке у кисти руки и в треугольной шляпе — это истинно тот самый человек, которого прославила Европа конца XVIII и всего XIX века за добытую им для Пруссии славу (любопытно только заметить, что Раух, по своему «реальному классицизму», непременно хотел представить Фридриха II в греческой хламиде и с голыми руками и ногами, и только неизменная воля самого прусского короля заставила его представить Фридриха в современном костюме). Но еще гораздо выше того — Лютер, огненный, твердый, непобедимый, уперший могучую, нервную руку, свернутую кулаком, на евангелие; он поднял вдохновенную, гордую голову вверх и произносит свои знаменитые слова: «Eine feste Burg ist unser Gott». Были в Европе художники, по художеству и художественной своей работе стоящие гораздо выше Рауха и Ритчеля, но нет ни на одной площади Европы общественного и государственного монумента выше этих двух по выражению души, по силе и беспредельной истине. Что значит для художника в самом деле всем существом своим погрузиться в глубину своей задачи! Никакая прелесть и мастерство техники не преодолеют истинно потрясенного духа его. Но как это редко случается!
21
В продолжение XIX века итальянские скульпторы именно, кажется, больше всех других доказали свою неспособность к такому погружению в глубину своего сюжета. У них все — лишь внешнее, все поверхностно. Они равнодушно понаделали сотни статуй, перебрали чуть не всю греческую и римскую мифологию, библию и евангелие, изобразили сотни, может быть, тысячи, знаменитых людей Италии, то «Данта», то «Христофора Колумба», то «Галилея», то «Гарибальди» (Тенерани, Дюпре, Бартолини, Табакки, Барцаги, Тантардини и множество других), но все это лишь декорация, риторика и костюм. Ни единой блестки живого чувства и души не проступило наружу. Зато превосходно выделаны складки, шелк, кружева, эполеты, сапоги, сабли, юбки. Большое кладбище в Генуе наполнено сотнями больших групп, по намерению очень реалистических, с нынешней обстановкой и нынешним костюмом всех действующих лиц, очень разнообразно представленных в печальных или трагических позах вокруг постели умершего, но ничто не может быть холоднее и педантичнее всего этого притворства и фальши художника, всей этой школьной шаблонности и полнейшего внутреннего равнодушия. При этом мастерство технической работы из мрамора или отливки из бронзы дошло у новых итальянцев до высокого совершенства, и вся Европа заказывает этим художникам-мастеровым «выполнять» значительнейшие работы или же учится у них технике, тонкой, деликатной, изящной, — но все-таки поверхностной и внешней. О душе, чувстве тут и помина никогда нет. На эти скульптуры зато совсем почти никто и не обращает никакого внимания. Правда, в 1867 году пошумели, на всемирной парижской выставке, заметили статую: «Последний день Наполеона Г, сделанную скульптором Вела, всего более в угоду Наполеону III, сидевшему тогда на престоле. Поговорили, но все-таки потом скоро забыли. Статуя была опять нечто совершенно поверхностное. Всего лучше было выделана одеяло, в складках лежавшее на коленях императора; всего хуже был — он сам, „с думой на челе“, опустившийся в своем кресле, но плохо выразивший наполняющие его „глубокие чувства“. Спустя шесть лет, в 1873 году, на венской всемирной выставке, опять обратила на себя внимание другая статуя итальянского графа Ольдофреди: „Наполеон III в Чизльгерсте“. Уже не было на свете и племянника-императора, как прежде (уже давно) — дяди-императора, и итальянскому скульптору (особливо графу) казалось нужным и интересным изобразить „последние муки и мысли“ этого второго наполеонида. Но Ольдофреди стоял по таланту ниже даже и Белы, и его статую забыли еще во время выставки. Гораздо более, тут же (в 1873 году), обратили внимания на статую Монтеверде: „Дженнер прививает оспу своему маленькому сынку“, — и действительно, задача была чудная, истинная и важная, а в статуе было известное мастерство- фактуры, некоторая новизна задачи и группировки; но скоро заговорили все, что и у этого итальянца, собственно, ничего нет настоящего, важного и значительного в самом творчестве: позы отца и сына — неверны и выдуманы для изящества группировки, а что касается выражения — то оно искусственно и преувеличено. В итоге — только декорация, эффект, а всего лучше, всего замечательнее выделаны: чулки и башмаки отца и складки его коротких по колено штанов.