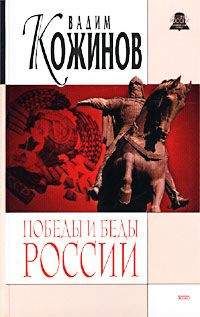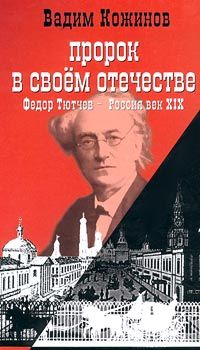Алла Латынина - Комментарии: Заметки о современной литературе
Не в первый раз в истории впадает во грех общество. Целые цивилизации существовали на основе культа человеческих жертвоприношений, уничтожением и грабежом покоренных культур, пытались застыть в неподвижности, отменив историю, – и отменяли лишь сами себя.
Мы впали в грех тоталитаризма.
Что делает грешник, осознавший бездну своего падения? Раскаивается.
Вот почему не может быть никакой духовной преемственности с коммунизмом, как не может быть духовной преемственности у раскаявшегося грешника со своим собственным прежним «Я».
Восхождение в гору или прыжок через пропасть?
Как для человека самоубийство – нечто противоположное раскаянию, преображению, так и для общества самоубийство – кошмарная альтернатива духовному возрождению.
Не признавая никакой духовной преемственности с коммунистическим прошлым, консервативное сознание не может не устрашиться вульгарной материализации идеи духовного разрыва. Мол, камня на камне не оставим от тоталитаризма – все в разбор! Эго – самоубийство.
Есть три заимствованных слова в русском языке, которые по внутренней форме необычайно близки. Революция, реставрация, ренессанс. Революция буквально – возвращение.
Первые европейские революции и осмысляли себя как социальное возвращение к первоначальной и естественной свободе страны.
Ренессанс осмыслял себя как духовное возвращение к античности.
Возвращение к первоначальной свободе оказалось возвращением к первоначальному рабству. Возрождение духовное обернулось мощным высвобождением творческой энергии человека.
Ставя перед обществом задачу возрождения, восстановления духовных связей с дооктябрьской историей, консервативное сознание понимает, как опасно подменить эту задачу задачей реставрации.
Как ни назови стремление разом ликвидировать все те структуры, которые образовывали в государстве управленческие и хозяйственные связи, революцией или реставрацией, это будет один и тот же революционный вихрь. В «Красном колесе» Солженицына инженер Архангородский, один из явно симпатичных автору героев, практический носитель «веховской» идеологии, рассуждает: «Разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и безумное разрушение. Всякая революция прежде всего не обновляет страну, а разрушает ее, и надолго». В противовес идее революции он выставляет идею «черной работы» «устройства России».
«Но и дальше так тоже жить нельзя, – парирует революционно настроенная дочь. – С этой вонючей монархией – тоже жить нельзя, а она – ни за что доброй волей не уйдет!»
Таков вечный аргумент революционного сознания. И вечный спор сознания консервативного с революционным похож на спор Архангородского с его детьми.
«Вы начали скверно, – пенял французским революционерам Берк, – потому что вы начали, отвергая прошлое». Но и те могли бы возразить: легко, мол, английскому джентльмену толковать о палате общин и «родословной свобод», ссылаться на Великую хартию вольностей, на королевские декреты, покровительствовавшие предпринимателям. Легко, мол, англичанину упрекать нас в том, что, считая все в своем отечестве ложью и узурпацией, Франция глядит на заграницу (то есть на парламентскую Англию) с таким пристальным вниманием, – на Великую хартию вольностей как не глядеть!
А на какое наследие прошлого опереться французам?
На Генеральные Штаты, не собиравшиеся сто семьдесят пять лет? На безумные траты двора? На крах государственных финансов? На разорительную налоговую политику, на бюрократизацию страны? На дворянство, которое сохранило все привилегии и утратило все обязанности? На тихое удушение провинциальной самостоятельности? На отобранные потихоньку в казну доходы городских коммун? На разорительные войны Людовика XIV, стремившегося к мировой гегемонии, на его мечты о мировом господстве, кончившиеся полным разорением собственной страны?
Всегда возможно объяснить, почему «так жить нельзя»: Карл I задался целью ввести тираническое правление, австриячка разорила страну, царское правительство не уйдет добром, тоталитаризм не способен к реформе изнутри… И пока они звучат в семейном разговоре или в диссидентском журнале – аргументы эти неопровержимы. Ведь и в самом деле: не уходят…
Но вот уже – заседает Долгий Парламент, созваны Генеральные Штаты, собралась Государственная Дума, избран Верховный Совет…
И что ж? Все радикальнее становятся призывы к разрушению – как раз тогда, когда открывается возможность реальной трансформации режима посредством реформ.
Сущность тоталитаризма остается неизменной! Гласность – политика обмана! Перестройка – дело рук КГБ, направленное на спасение режима! Выборам – бойкот! Между чумой и холерой не выбирают! Нами правят преступники! Горбачев – фашистский диктатор!
Все эти лозунги, эти всплески радикалистской мысли не без сочувствия и иронии рассматривает консерватор, когда они украшают страницы свободных газет или стены подземных переходов, знаменуя возникновение в обществе ситуации, прямо противоположной содержанию этих лозунгов.
Но уже с большей тревогой относится он к словам, брошенным на вечере Сахарова прямо в лицо президенту: «Пока партия не отдаст народу все до нитки, будет торжествовать сталинизм».
Мужественная и стойкая женщина, чьи негодующие речи бесстрастно доносит телевизор, имеет право так думать и чувствовать. Но любой здравомыслящий человек все же не может не заметить, что сама по себе публичность этого заявления его же и опровергает: сталинское телевидение поперхнулось бы, а горбачевское – ничего, проглотило.
Когда князь Талейран умер, парижские острословы спрашивали: «Талейран умер? Интересно узнать, зачем ему это понадобилось?» Нынче советологи всерьез рассуждают о злом умысле бездыханной системы…
Консерватор, питающий глубокую антипатию к коммунизму, очень хотел бы, чтобы партия побыстрее ушла и собственность отдала, и ЦК КПСС перестал тайно и явно править страной, и партбюрократы на местах перестали бы совать палки в колеса приватизации, и чтоб вообще в стране завтра наступили покой и изобилие.
Но исторический опыт подсказывает ему, что насильственная экспроприация целого класса не может не вызвать его яростного сопротивления, и это сопротивление погубит робкие реформы прежде, чем побеги их прорастут сквозь старые структуры. А надежда на реформы – так заманчива.
Да, теоретики тоталитаризма отрицали возможность его трансформации: для проведения реформ в государстве должен быть встроен механизм изменения социальных институтов в рамках самих этих институтов. Сущность тоталитаризма, мол, в отсутствии этого механизма.
Что ж, придется в теорию внести изменения…
Думается, за семьдесят лет советское общество претерпело больше изменений, чем американское.
Военный коммунизм – режим сколь не новый в истории, столь и эфемерный, испробованный анабаптистами Мюнстера в 1534-м и иранскими бабидами в 1848-м.
Нэп, с его поощрением мелкого собственника из фискальных соображений, с чиновником, достаточно проворным, чтоб извлекать из своего посредничества между собственником и государством не предусмотренные законом выгоды…
Сталинский режим: где население было обращено во всенародную, вернее, всепартийную, собственность, и орден меченосцев начал систематическую войну против этой собственности. Мы сражались на трудовом фронте и бились за урожай. Надо отдать должное партии – она всегда умела выигрывать битву, а урожай оказывался проигравшей стороной…
При Хрущеве партократия превратилась в бюрократию. Упрочилась специфически чиновничья собственность – собственность в форме привилегий. Собственность на процессы распределения. Предприниматель имеет тем больше, чем он произведет. Чиновник имеет тем больше, чем он отнимет.
Но бюрократия – самый нестабильный класс на свете. Групповой интерес чиновничества противоречит личному интересу чиновника. Групповой интерес зовет к самосохранению. Личный интерес зовет к обогащению. Зовет превратиться из чиновника – в собственника, выйти на рынок с имуществом в виде привилегий и обратить его, через взятку или обмен, из собственности на процессы распределения в собственность на средства производства.
Реформы Горбачева продолжили эволюцию, совершавшуюся при Брежневе.
Горбачев – наследник партии и выходец из ее рядов, подобно тому, как герцог Ришелье – выходец из рядов аристократии.
Сравнение тем более правомерное, что Ришелье, создавая сильное национальное государство, уничтожая полновластие аристократии, возвышая третье сословие и национальную бюрократию, – этим создавал рынок взамен внеэкономического принуждения феодального строя.
И подобно тому как при Ришелье социальные и экономические привилегии дворянства возрастали по мере того, как падало его реальное значение, как новые учреждения создавались не вместо, а помимо прежних чинов, незаметно превращавшихся в синекуры, – так и Горбачев преуспел потому, что начал не с разгона райкомов и с отмены пайков, не с лозунга «грабь награбленное», а с постепенной трансформации уже существовавших, но фиктивных парламентских органов.