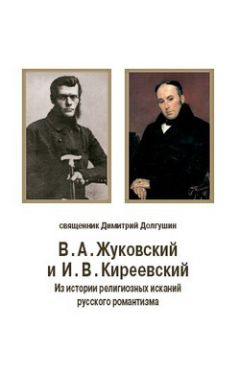Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма
Даже краткие версии сюжета порой могут получать форсированное развитие, чрезвычайно интересное в религиозно-идеологическом плане. Герой Станкевича, граф Z***, – эрудит, обожающий природу и искусства. Но он устал от жизни, разочарован, одинок и мечтает о том, чтобы снискать спасительную духовную целостность в «создании», завершающем и отражающем в себе всю полноту творения:
Как прежде, он любил природу, но смотрел на нее с какою-то грустью; радужные покровы детства спали с нее… немая красота находила отзыв в душе его, но, одна, уже не могла его удовольствовать. Сочувствия, полного сочувствия – вот чего он жаждал… Если бы случай сблизил его с созданием, достойным той высокой, бескорыстной любви, которую он расточал на безответную природу, на хладный мрамор и мимолетные звуки; если бы он нашел красоту, отражение, сосредоточение природы с человеческим сердцем в груди, с молитвой на устах!.. [Мотив одушевленного подобия, воплощенного в женщине, которая должна будет увенчать собой все творение; см. в главе 2-й.] Какая бесконечная жизнь любви ожидала это создание! Какая отрада ожидала истомленную душу страдальца!
Эта Anima mundi смогла бы – как у Погодина или Вельтмана в «Лунатике» – согреть живой водой мертвую воду его рассудочного знания – а тем самым даровать ему всемогущество, соединив героя со всей «жизнью вселенной»: «Гордый разум беспрекословно почтил бы Бога в творении, вера младенца и любовь юноши дали бы крылья мужественному уму – и куда б ни проник он!..»
Как-то в Вене приятель-меломан принес ему партитуру Пастушеской (Шестой) симфонии Бетховена. Граф сел за фортепьяно – и тогда «душа его как будто пробудилась от долгого усыпления: все чаще [sic], все полнее становилась она, тихий румянец покрыл его бледные щеки, кроткое упоение сияло в глазах, как будто потерянные годы возвратились с своими туманными надеждами». Но это еще не подлинное пробуждение, а лишь его предвестие. Безотчетное упование сменяется депрессией, и все разрешается хаосом, столь же обычным для рассматриваемого сюжета, как и смесь контрастных эмоций. Здесь он не поддержан окружающими реалиями, а сосредоточен в самой игре героя: «Вдруг каким-то судорожным движением нарушился спокойный, ровный ход мелодии <…> послышался диссонанс, чадо муки душевной <…> Мир гармонии готов разрушиться… Вот возник целый хаос диссонансов; граф крепко ударил по клавишам; нестройный вопль пробежал по фортепьяно, струны лопнули».
Вечером он с приятелем отправляется на концерт, где та же Пастушеская симфония захватывает его «до глубины души». Прежний хаос сменяется картинами утраченного детского рая, чувством обновления или воссоздания мира во всей его полноте. Он «улетел мечтою в годы детства. Вот безмятежное утро восходит над благословенным кровом отца его, первый луч солнца румянит волнистые нивы <…> на душе становится веселей и веселей… полно, свободно дышит грудь… пламя любви разгорается и хочет обнять всю природу…»
Короче, эйфория перерастает в эротическое влечение, пока еще безадресное и раскрытое всему миру («объятия»). Вскоре, однако, оно начинает обретать цель. Взор героя, «отдавшегося на волю своего воображения», останавливается на одной из молодых слушательниц. Мистические коннотации угадываются в самой ее позе, которая разительно совпадает с той, что предписывалась исихастской техникой «умного видения», намеренно затруднявшей дыхание: «Она сидела, поникнув головой к груди, и как будто смотрела вдаль». Искомое родство душ отсвечивает в подразумеваемом культурно-эмоциональном тождестве обоих героев, которых соединяет общая греза (адекват общей небесной родины): «Сны его не прерывались, звуки для него не умолкали, но ему казалось, что те же сны чаровали ее душу».
Так идеал выступает из марева сновидений, ниспосланных музыкой: «Душа ищет какого-то предмета, чтоб остановиться, чтоб излить на него все обилие тоскующей любви» – и его находит. «Глаза их встретились… Он вздрогнул… ему казалось, неясный сон сбывается». Окончание концерта знаменует для героя подлинное духовное пробуждение и восполнение всей его жизни, обретшей свое сакральное назначение. «В эту минуту граф был прекрасен, как небожитель <…> Он ожил всей полнотой своей роскошной жизни <…> божество водворилось в нем с миром и любовью, и в каком-то сладком изумлении смотрела незнакомка на преобразившегося юношу».
Герои вступают в эротический союз, насыщенный тотально-религиозным смыслом: их брак должен будет одухотворить все мироздание, соединив его с Творцом. Пантеизм замешен на unio mystica-erotica, в которой возлюбленная представительствует от самого Бога: «– Ты веришь, не правда ли, ты веришь, – говорила она, – что новая жизнь зарождается в этом пламени, жизнь вечная, всемогущая, которая ощутит себя в каждом атоме природы, которая прославит Бога в каждом создании?» – «– Верю ли я? – отвечает герой. – Знаю с тех пор, как знаю тебя; мы будем в Нем, как Он во всем; мы ступили первый шаг к блаженству; уже я живу твоею жизнию и молюсь твоею молитвою».
Увы, это «неожиданное блаженство разрушило слабый состав» графа, и тот заболел. Умирая, он продолжает обожествлять возлюбленную, а вместе с ней и самого себя. Подобно Христу, героиня соединяет собой Творца с тварным миром: «Да! Я чувствую в себе присутствие божества. Ни одного сомнения! В последние минуты образ ее будет мне ответом на все вопросы души <…> Он будет посредником между тварью и Создателем».
Но подключенная сюда христианско-дуалистическая модель без остатка вытесняет модель шеллингиански-пантеистическую. Свои последние надежды герой уже возлагает лишь на «другую землю», т. е. на Царство Небесное, а сама повесть кончается отпеванием графа и молитвой его друга, обращенной «к распятому». В ней больше не упоминается о благостном присутствии Бога в природе и Его созданиях, – напротив, сотворенный мир по-прежнему предстает «безответной пустыней», юдолью страданий, которые довелось изведать и Спасителю: «Ужасна безответная пустыня мира! <…> И Ты сам был в мире – и на Тебя воздвигалось житейское море!»[1019]
В новелле декабриста Николая Бестужева «Отчего я не женат?»[1020] печальный и мечтательный герой, он же рассказчик, наделен подчеркнуто автобиографическими чертами: это морской офицер и писатель-маринист. Некогда он утратил любимую девушку; вдобавок удручен новыми житейскими тяготами, а потому никак не может решиться на брак, хотя ему уже 32 года, и мать давно хочет его женить. Она отсылает его с поручением в Старую Ладогу, с тем чтобы по возвращении сын, наконец, выбрал себе невесту.
Путешественник застревает на почтовой станции у Ладожского озера, близ Шлиссельбургского замка (в котором, надо добавить, отбывал тюремное заключение сам автор). Стоит мрачная осенняя погода, и сквозь «косой ливень» едва проглядывает «угрюмая громада» замка: «Озеро глухо ревело, переменяя беспрестанно цвет поверхности, смотря по силе порывов и густоте дождя, – и я в первый раз дал свободу своим мыслям, которые до сих пор сдерживались или толчками, или ожиданием. Какое-то грустное чувствование разливалось во мне при виде этих башен». – Перед нами внешний, причем на редкость зловещий, хаос, переходящий в сообразный ему хаос внутренний – в «грустное чувствование», т. е., по нашей терминологии, в томление, окутанное аурой специфической неопределенности.
Понурый холостяк теперь впервые почему-то задумывается о желании матушки, удивляясь такому «странному сцеплению идей», – которое, однако, вполне соответствует общей схеме сюжета. Отвечает ей и ощущение внутренней пустоты: «Я сам чувствовал пустоту в сердце; мне чего-то недоставало, даже в кругу милого моего семейства, между достойных моих братьев и сестер» (домашний рай, но уже тесный для героя). Он вспоминает о том, как после смерти возлюбленной, похищенной у него судьбой, «создал себе новый идеал и равнодушно смотрел на женщин, сравнивая их с моей мечтой».
Взволнованный герой затем читает по-английски «Сентиментальное путешествие» Стерна, проникаясь состраданием к изображенным здесь узникам Бастилии (еще одна аллюзия автора на его собственную участь). Наконец он ложится в постель, однако заснуть не может. Вялое развлечение он находит в том, что время от времени поглядывает на висящее над столом зеркало, в котором видит то, что происходит в соседней комнате (так создается техническое условие для последующей встречи).
Душевный хаос принимает сейчас позитивное направление, хотя и без мотива счастливой приподнятости или полноты внешнего бытия, которая контрастировала бы с одиночеством героя или стимулировала его предчувствия. Тем не менее эротический идеал и здесь как бы начинает конкретизироваться (промежуточная фаза «безмыслия» – снятого, гаснущего сознания тут опущена, а вернее, заменена наплывом переменчивых побуждений): «Наконец <…> я предался снова мечтам, снова думал о женитьбе, потом о намерении никогда не жениться, а между тем какой-то женский идеал носился в моем воображении против моей воли и занимал меня до 10 часов» (маркирован вечер).