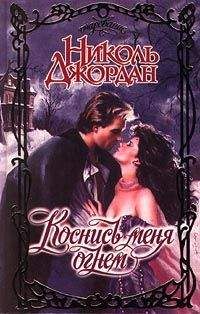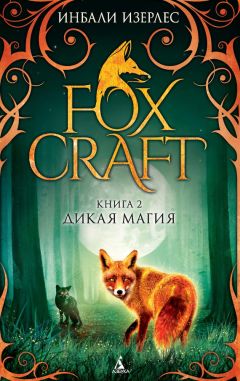Лазарь Лазарев - Записки пожилого человека
По вечерам после ужина и перед началом кино на втором этаже у приемника собиралась большая компания для коллективного прослушивания «Би-би-си» или «Свободы». Комментировали и обсуждали последние известия. Александр Альфредович с совершенно невинным видом, явно потешаясь, задавал простодушные вопросы, выявлявшие кафкианский характер нашей действительности и тупоголовие властей.
После того как наши правители с помощью танков покончили с «пражской весной», прекратились коллективные прослушивания, да и, кажется, приемник от греха подальше убрали. И когда Бека после ужина кто-то пытался остановить, он с очень озабоченным лицом говорил: «Простите, очень тороплюсь, не могу задерживаться, через пять минут выхожу на связь».
Однажды в Малеевке (кажется, это было после долгого разговора о мемуарной и документальной литературе о войне) он вдруг подарил мне высоко ценимое мной «Волокаламское шоссе» с приятной надписью: «Дорогому Лазарю Ильичу Лазареву с симпатией и благодарностью за многое. А. Бек. 23 марта 1969 г.». Что касается симпатии, тут мне все ясно — она была слабым эхом того душевного расположения, которое я испытывал к нему. А вот за что он меня благодарит, были ли для этого какие-то основания — не помню.
И еще один эпизод — уже не малеевский. На собрании в ЦДЛ мастера художественного слова, выполняющие спецзадания, сообщают о страшной идеологической диверсии: рукопись «Нового назначения» Бека оказалась за рубежом и скоро будет издана. Обвинения и угрозы еще не персонифицированы: «Надо выяснить, каким образом рукопись попала за границу, кто передал», но нацелены, конечно, на Бека. «Птицы ловчие» в ожидании легкой добычи уже выпустили когти.
И тут слова просит Бек и говорит, что знает, кто переправил его роман. Сидящие в президиуме, как по команде, повернулись в сторону оратора и замерли. «Я не передавал роман, — сказал Бек, — редакция „Нового мира“, я точно знаю, не передавала. Это сделал Главлит, он дал читать верстку посторонним людям».
Немая сцена: лица чинов, сидящих в президиуме, не могут скрыть разочарования…
Интересное киноТогда в доме творчества в Малеевке собралась приятная и веселая компания.
После ужина решаем, что делать. Идти ли играть на бильярде или собраться у кого-то — распить бутылочку, потрепаться. Изольд Зверев предлагает пойти в кино:
— Фильм надо обязательно посмотреть, там есть одна потрясающая сцена.
Мы колеблемся, но Изольд так горячо уговаривает, что всем скопом отправляемся в кино.
Смотрим какой-то вполне заурядный милицейский детектив, начинаем злиться на Изольда, зачем он повел нас смотреть эту муру. Порываемся уйти. А он твердит:
— Подождите, будете меня еще благодарить. Надо обязательно посмотреть этот эпизод.
Так повторяется несколько раз, мы все-таки продолжаем смотреть совершенно бездарный фильм, но все больше накаляемся, грозим Изольду всяческими карами.
И вот он говорит:
— Вот сейчас. Смотрите внимательно.
В фильме преступники ранят милиционера, сослуживцы приходят в больницу его проведать. Один из них отправляется к врачам, возвращается и со скорбью говорит: «Софронов умер…»
Софронов был тогда в полной силе и со своей сворой затравил, отправил на тот свет не одного человека. Давясь от смеха, мы выбираемся из зрительного зала…
Когда нет словИзвестно было, что это никудышный, аховый фильм. Его состряпали только потому, что автором сценария был влиятельный в киносферах деятель, хотя не могло быть никаких иллюзий — ничего путного он сочинить не в состоянии. Той же квалификации был и режиссер. Но, видимо, сценарист был доволен своим творением и привез фильм в Малеевку, чтобы показать писателям. Был устроен дополнительный дневной сеанс, на который, как мне потом рассказали, пришло человек шесть-семь — знакомые сценариста и те, кто посчитал, что он в будущем при случае может им порадеть.
Я спросил у одного из этих зрителей:
— Ну как?
— Ужасно, хуже не бывает, — ответил он.
— Что же вы ему сказали?
— Выходя из зала, я молча крепко пожал ему руку.
Эта формула стала в нашей компании крылатой.
«Физики» и «лирики»Тот август в Коктебеле был необычайно жарким, наверное, поэтому в нашем «заезде» (прошу прощения за этот ипподромный, конноспортивный термин) не было сановных и маститых, с громким именем писателей. Так получилось, что на мужском пляже образовалась компания относительно молодых литераторов, связанных дружескими московскими, докурортными отношениями, центром которой был Анатолий Аграновский.
Впрочем, в нашем «заезде» оказалась и одна знаменитость, равной которой тогда вообще не было в писательской среде, — академик, нобелевский лауреат Игорь Евгеньевич Тамм. Он был существенно старше всех нас, никто из нас не был с ним знаком до этого, но довольно быстро Игорь Евгеньевич примкнул к нашему пляжному сообществу. Участвовал в общих разговорах, без раздражения отвечал на наши наивные, а нередко просто малограмотные вопросы о том, что делается в естественных науках, иногда что-то рассказывал по собственной инициативе, охотно играл в шахматы, вечерами, когда собирались у кого-нибудь на террасе, пили молодое вино, слушали Аграновского, который под гитару пел свои песни, приходил и на эти посиделки, иногда затягивавшиеся до глубокой ночи.
С шахматами даже произошла смешная история. С опозданием на несколько дней приехал в Коктебель поэт Вадим Сикорский, явился на пляж, увидел у Игоря Евгеньевича на лежаке шахматы и предложил ему сыграть. Они довольно долго играли и беседовали, мы видели, что Вадим время от времени начинал о чем-то спорить с партнером, что-то ему настойчиво внушал. Когда партия (или партии) кончилась, Вадим подошел к нам и спросил: «Ребята, не знаете, кто этот старичок, с которым я играл? Какой-то „технарь“ это я сразу понял, но кто он?». Мы ему сказали, и он сначала вытаращил глаза от изумления, а потом начал хохотать. Оказалось, что по дороге в Коктебель он прочитал в каком-то журнале популяризаторскую статью о науке и на ее основе настойчиво учил уму-разуму Тамма.
Я запомнил два пляжных рассказа Игоря Евгеньевича. На вопрос о перспективных направлениях в науке он ответил, что с определением таких направлений надо быть очень осторожным. Далеко не всегда нам дано угадать, какой участок через десять-двадцать лет окажется важным, станет передним краем науки. Фронт исследований должен быть очень широким. И рассказал, что до войны в Ленинграде существовала маленькая лаборатория, которая занималась редкоземельными элементами, — руководитель и три-четыре верных ученика. Относились к ним как к чудакам, фонды отпускались минимальные, каждый год ставился вопрос, не закрыть ли — занимаются пустым делом, практическая польза от которого нулевая. Но если бы не эта лаборатория, не эти ученые, когда начали создавать атомную бомбу, понадобились бы годы, чтобы проделать тот путь, который они уже прошли.
И еще одно. Страстным увлечением Игоря Евгеньевича было подводное плавание — незадолго до этого было изобретено необходимое снаряжение. Об этом он много говорил тогда…
В ту пору у нас получили довольно широкое распространение технократические и наукократические настроения и чаяния. Они отразились в пользовавшемся большим успехом фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года». В «Комсомолке» технари Полетаев и Ляпунов резко атаковали Илью Эренбурга, защищавшего «ветку сирени». Стало знаменитым стихотворение Бориса Слуцкого «Физики и лирики», в котором он писал: «Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне», «Это самоочевидно. Спорить просто бесполезно». Со Слуцким, однако, спорили и спорили довольно горячо — прежде всего писатели, «лирики». Они не без оснований воспринимали технократические устремления как посягательство на культуру и гуманитарные ценности. «…Не слишком политический шум этой дискуссии, поднятый в слишком политическое время, — писал потом Слуцкий, — был безобиден и даже полезен». Это верно, хотя нужна тут оговорка: в «слишком политическое время» любой шум становится политическим. И в этом споре — сейчас это видно яснее и лучше — был еще объект, одинаково вызывающий и у «физиков», и у «лириков» неприятие, — это проникшая во все поры нашей жизни окостеневшая, мертвенная идеология, представляющая собой довольно произвольный набор догм.
А теперь вернусь к тому коктебельскому августу. То, что академик Тамм был нам интересен, особых объяснений не требует. Хотя все-таки надо иметь в виду, что самостоятельных суждений о масштабах его научных достижений, о значении его открытий у нас, конечно, не было, да и не могло быть. Он привлекал нас как незаурядная личность, умный, проницательный человек с большим жизненным опытом, приятный, располагавший к общению собеседник.