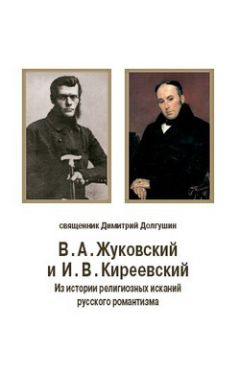Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма
Иногда ту преэкзистенцию, которой объясняется узнавание, авторы отождествляют с былой встречей, забытой разумом, но сохраненной памятью сердца. Героиня повести Жуковой «Самопожертвование» говорит: «Я знала, что когда-то видела эти прелестные тонкие черты и черные глаза с выражением тихой грусти, слышала этот голос, приятный, чистый, доходящий до сердца, но то было где-то как будто в другом мире. Я начинаю думать, что душа нашла старинное знакомство из лучшего мира, где жила она прежде, нежели удостоила оживить мое грешное существо»[1011].
Редуцированной или метафизически неразвернутой формой взаимного опознания может стать и единство душевного склада, т. е. упомянутое в 1-м разделе настоящей главы культурно-эмоциональное тождество героев. Оно открывается в разительном соответствии их эстетических или порой, как в «Адели», даже научных пристрастий («Одни чувства, одни мысли рождаются у нас при чтении»), а чаще всего – в их общей любви к музыке или поэзии как вести, доносящейся с родных небес (ср. выше «лютню» Антона).
В начале 1835 г. Ростопчина написала грустное стихотворение «На прощанье…», которое впервые решилась опубликовать только через двадцать лет: «Меж нами так много созвучий! Сочувствий нас цепь обвила, И та же мечта нас в мир лучший, В мир грез и чудес унесла. В поэзии, в музыке оба Мы ищем отрады живой; Душой близнецы мы… Ах, что бы Нам встретиться раньше с тобой!..» В обоих этих искусствах духовное тождество чаще всего облекается в формы зова и отзыва: «Всякое слово его громко отзывается в моем сердце» (Ган, «Идеал»).
Вообще говоря, в 1830-х гг. узнавание, равнозначное само по себе воплощению сакрализованного эротического идеала – уже клишированный мотив, который сшивает совершенно разнородные романтические повествования безотносительно к их жанровой специфике. Неудивительно, что к концу десятилетия его охотно пародирует Вельтман: «Вот он! Вот тот, о котором тосковала душа, который для меня создан, с которым жизнь – все и без которого все – ничто! О, как я его люблю! Как давно люблю! Кажется, до жизни его любила, искала везде и всегда!.. вот он!»[1012]
13. Образчики романтической схемы
Трудно найти такой инвариантный текст, где реконструированный нами функциональный комплекс с начала и до конца присутствовал бы во всем его объеме, без каких-либо исключений. Некоторые романтики вообще опускают либо инициальную, либо, гораздо реже, заключительную фазу осевого сюжета. По большей части мы имеем дело с произведениями, разрабатывающими основной состав мотивной серии с кое-какими, иногда существенными, пробелами или малосущественными перестановками ее элементов. В то же время впечатляет чрезвычайно широкий выбор тех ситуативных обстоятельств или реалий, посредством которых в самых разных текстах вводятся и которыми уснащаются одни и те же наиболее стабильные мотивы наподобие хаоса, душевной смуты, образов рая, беспричинной эйфории, пробуждения либо узнавания.
Начнем с сочинения, удобного для нас тем, что оно словно представительствует от всего корпуса позднесентименталистской или же преромантической прозы. Речь идет о повести В. Карлгофа «Станционный смотритель» (1827). Некоторая ее сюжетная специфика заключается в том, что сама фаза знакомства здесь практически отсутствует – она упоминута лишь мельком. Зато весьма показательно дальнейшее движение текста, как бы заново отрабатывающего исходную модель.
Герой – бедный сирота, но человек образованный, учившийся ранее в Геттингене. Он без памяти влюбился в Лизу, дочь человека состоятельного и чванливого (владетель объекта). Девушка отвечает ему взаимностью, мать героини также на его стороне. Отец, который намерен найти для Лизы более престижного жениха, отказывает юноше от дома. Потрясенный герой проводит около трех месяцев «в тяжком состоянии совершенного равнодушия». Конечно, перед нами фаза смятения или обмирания, почти тождественного временной смерти. Хотя она увязана тут с разлукой (подробнее об этом мотиве см. в 8-й главе), а не с предварительным томлением, типологически оба этих состояния между собой очень сходны.
Вполне соответствует общей сюжетной канве последующее перемещение героя, ведущее его от отчаяния в те целительные пространства, которые запечатлели в себе красоту и изобилие пробуждающейся жизни:
Желая развеять свою тоску, я бродил по волшебным островам, которыми так богат наш Петербург: густые тени падали полосами на землю, высокие деревья, сии гордые памятники прошедших столетий [довольно характерный мотив сакрально-исторических реминисценций], сии живые свидетели построения столицы, рисовались в гладком зеркале Невы [удвоение пространства]. Я был очарован: то летучей мечтою следил за песнями матросов, которые быстро плыли мимо меня в шлюпке; эхо разносило их голоса по заливам и речкам; то прислушивался к шумному говору, который тихим ветром доносился ко мне с гулянья.
Песни, эхо, тихий ветер и говор – это акустические сигналы, предвещающие встречу (ср. приведенную картину с более поздней новеллой Маркова). Теперь у Карлгофа сразу же смыкаются два мотива: обычное чувство тоскливого одиночества, обостренного при виде благодатных сцен, и, казалось бы, беспричинная, но вещая эйфория, которая внезапно охватывает героя и которая знаменует появление милой:
Полнота чувств не скрывается; печаль вырвалась из груди моей и слезы полились из глаз, я упал на дерновую скамью – вдруг мне стало легче… смотрю кругом: как прежде, вершины деревьев наклонялись тихо; ими играл легкий ветерок, вода чешуилась и преломляла прямые лучи жаркого солнца; но мне было легче, какое-то утешение мелькнуло в душе моей <…> Девушка, которой в жертву охотно бы принес я все дни моей жизни, всю полноту моих чувств, прислонясь к дереву, смотрела на меня с немым участием.
Вместе с Лизой на героя растроганно смотрит ее мать. Она помогает влюбленным бежать из дома и обвенчаться. Поселившись с женой вдали от Петербурга, на Каме, герой делается станционным смотрителем. Супруги находят отдохновение в чтении книг и вообще живут счастливо, в непритязательном сентименталистском оазисе, слегка напоминающем об утопии «Сокольницкого сада»[1013].
В не раз цитировавшейся повести Мельгунова «Зимний вечер» некоторые мотивы, как и следовало бы ожидать, представлены богаче и шире, чем в сентименталистской традиции; зато другие – слабее или просто отсутствуют. Будущему графу, герою этого сочинения, минуло 13 лет, когда его решили отвести в Пажеский корпус, куда он был записан. По пути отец заехал с ним в гости к своей дальней родственнице. Мечтательный подросток, привыкший дома к спокойному одиночеству (то было одиночество положительного свойства, или детский рай, по нашей терминологии), попал в многолюдную детскую компанию [= изгнание] и «потерялся в этом маленьком хаосе разногласных наклонностей, страстей и привычек». Иначе говоря, внешний хаос переходит в состояние внутренней опустошенности.
Эту свою новую обособленность герой ощущает уже с горечью – ибо теперь, выходя из прежней самоизоляции, он начинает стремиться к восполнению, достраиванию своего Я. Никто из детей не приходится ему «по сердцу, а потребность дружбы рано открывается в человеке, особенно когда из тихого уединения он попадает в шумный круг и сердцем понимает необходимость утвердить на ком-нибудь свое рассеянное, беспредметное чувство. Отчужденность делает еще ощутительнее эту жажду души. [Еще несфокусированные поиски партнера, пока лишенные отчетливо-эротической подоплеки.] Но я скоро набрел на источник, где мог утолить ее. // Как-то вечером <…> все дети отправились гулять в английский сад [новый вариант эдема] <…> Я чувствовал себя на просторе, во всей полноте жизни [заполненность райского окружения, требующая такого же восполнения и от героя]; я чувствовал, как разгоралось мое сердце, как быстро обращалась во мне кровь <…> Я был весел, прыгал от радости; но эта веселость была уже не детская: в ней крылся зародыш не ребяческого чувства. С этой минуты я начал считать дни, я начал жить; до этой поры я прозябал». – Как у Измайлова, дано пробуждение или пересоздание собственной личности, только предшествующее самой встрече, а не вызванное ею. Оно сращено здесь с биологическим взрослением вроде того, которое в других текстах проходят различные ровесники и ровесницы героя.
Сразу же намечается трансформация его прежнего расплывчатого дружелюбия, не встретившего отклика, в новый, эротический импульс («объятия»), обусловленный этим пробуждением и направленный поначалу на весь мир: «О, как охотно заключил бы я всех в одно широкое, крепкое объятие! Но мои товарищи не понимали меня и бегали по лужам. Они стали жалки; я увидел, какое расстояние разделяет их – детей от меня – юноши (это слово в первый раз пришло мне в голову). [Новая, уже вполне намеренная отрешенность от ближайшего круга, свойственная как горделивым или мечтательным романтическим личностям типа Татьяны, так и обычным взрослеющим персонажам наподобие измайловского героя, инстинктивно ищущим эротической встречи.] <…> Я очутился неприметно один, в темной аллее. Солнце было на закате [вечер]; его косвенные лучи едва проникали сквозь листья густых и благовонных лип. Я шел и мечтал, сам не зная о чем [смутное предчувствие встречи], как вдруг что-то белое мелькнуло в соседней аллее». Это его прелестная сверстница Вера (как он вскоре узнает, одна из его сестер).