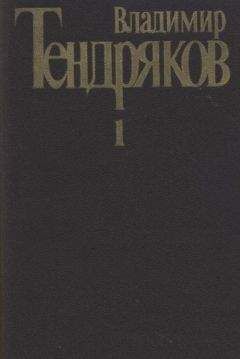Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
Долго лежу в изнеможении, отдыхаю в заповедном мирке, успеваю даже проводить золоченого монашка до вершины былинки, тихо порадоваться его победе. Наконец набираюсь сил, приподымаюсь на подламывающихся руках…
Я ждал — мир разрушен, верил — увижу вывернутую наизнанку землю, где чудом уцелел лишь жалкий клочок, который я по-сыновьему прикрывал своим телом. Милость спасения выпала нам двоим — жучку-монашку и мне.
Но, на удивление, мир во все стороны был цел, даже ни единой новой воронки рядом — раскаленная, с плывущим вверх волнистым воздухом степь, дорога, а на ней, как утверждение покоя, забытая мною саперная лопатка. Где же тогда происходило светопреставление? Да было ли оно? Не пригрезилось ли мне в страшном кошмаре?
Я добросовестно закончил свою работу, упрятал в землю кабель. Вернувшийся к жизни, я снова почувствовал изнурительность жары и мучительную жажду… Благодатно прохладный котелок воды! Но придется терпеть до огневой. Тем более что с нее никто не вышел мне навстречу, а должны бы выслать. Двинулся дальше по кабелю.
Еще не сделав и сотни шагов, я прозрел, где именно было светопреставление!
Немецкие самолеты бомбили знакомую минометную батарею.
В пологой лощинке метались, возбужденно и зло кричали солдаты, ставили опрокинутые минометы, перетаскивали и складывали в штабеля ящики, лихорадочно, в несколько лопат раскапывали заваленные щели. И все это вокруг величественно безобразной, глыбасто-рваной глубокой воронки. Несколько зияющих воронок по склонам. У одной в стремительно бегущей позе убитый, зеленая гимнастерка перехлестнута портупеей, должно быть командир.
Ближе ко мне заросший рыжей щетиной санинструктор обрабатывал раненого. Болтался распоротый, тяжелый от крови рукав, вызывающе сияли белые бинты на черной руке. Санинструктор кричал с неестественным надрывом:
— Кучкин! А Кучкин! Слышишь меня?
Раненый Кучкин мотал пыльной, коротко стриженной головой, не отвечал.
— Оклемаешься, Кучкин! Ничего, что пришибло! Оклемаешься, брат! А рана твоя пустяковая, Кучкин!.. Шевельни пальцами! Шевельни, говорю!.. Во! Шеве-лят-ся!!
Я не смел приблизиться. В моей помощи тут никто не нуждался, справлялись сами. И какой я помощник, до сих пор чувствую слабину в коленках. А еще считал себя обстрелянным — неуязвим, не боюсь.
Санинструктор суетился и почти восторженно орал над пыльной макушкой раненого:
— В санбате живо поправят, будешь как новенький! И снова таскай плиту, Куч-кин!..
Возле раненого стоял котелок с водой, почти полный. Нет, я не решился попросить — счастливый у потерпевшего, здоровый у раненого. Ну нет!
А ведь здесь не было светопреставления. Погром — да. Но люди продолжали деятельно жить. Кто знает, сколь много может вынести человек?..
Я уходил, а надрывный крик санинструктора провожал меня:
— Кучкин! А Кучкин! Повезло тебе, братец! Месяц прокантуешься. Может, и два!..
12На огневой все смешалось. Орудийные расчеты на руках — р-раз-два, взяли — выкатывали с позиций на открытые места пушки, цепляли к ним зарядные ящики. Ездовые, мешая друг другу, подавали задом лошадей, лошади сбивались в кучу, путались в постромках. Запаренные командиры не по-уставному кричали на орудийщиков, орудийщики на ездовых, ездовые на коней — крепкие выражения, толкотня, хлопанье кнутов, ржание, острый запах конского пота. Не отступление, нет, и не паника перед противником, срочный приказ — сниматься на новое место, ближе к передовой.
Словно из-под земли вырос Зычко, охомутан шинельной скаткой, карабин на плече, вещмешок за спиной — готов к походу, — скуластое лицо бронзово и непроницаемо.
— Бачишь оцей кабель? По нему до хозчасти… И швыдче, швыдче! Возьмешь две полные катушки тай разом обратно. Отсюда потянешь связь к новой огневой. Чув?.. Повторить приказание!
— А НП?..
— Яки тоби НП? Пушки сымаются, НП тоже.
— Как же они связь смотают? Нинкин убит. Старик Ефим с тремя катушками надорвется.
Зычко цепко взял меня за пуговицу, притянул вплотную, жарко дыхнул.
— О себе гребтуй, хлопец. Война не маты ридна. Шо був добреньким, забудь. Спасибочки говори — не назад гоню к пулям, а в тыл, от пуль подале. Минутку да выгадаешь.
— Может, сам сходишь?.. В тыл-то, от пуль подальше. А я навстречу бате связь мотать стану.
— Па-ав-та-рить приказание, сержант Тенков!
— Где здесь напиться?
— В хозчасти напоят.
В тыл, подальше от пуль. Хотя какой уж тыл — хозчасть рядом, рукой подать. А пуль здесь хватает, воздух стонет от них. Пожар на передовой, похоже, разгорается не на шутку.
Развернутой неровной цепью идет по степи мне навстречу часть пополнения. Свеженькие. Они на добрых полдня позже нас вылезли из теплушек, только-только приближаются к фронту.
Впереди, заломив утопающую в каске голову, бойцовски выставив узкую грудь, вышагивает лейтенант. Он весь новенький как только что отчеканенный двугривенный. Гимнастерка, ремень, кобура пистолета, кирзовые голенища сапог — все нескладно топорщится, все не притерлось. Видать, сразу бросили из училища сюда, ничуть не старше меня годами. На круглой свежей, еще не тронутой степным загаром физиономии так и впечатано: «Видите, мне все нипочем!» Слишком отчетливо, слишком наглядно, чтобы быть правдой. Наверняка жадно ловит посвист каждой пули, гадает, какая ближе, какая дальше, несет в себе нетающую глыбу страха, но грудью вперед, молодцевато несет свое «мне все нипочем». Изредка, шевельнув плечиками, оборачивается, петушиным голосом отечески подбадривает:
— Вперед! Вперед! Не отставать, братцы!
За ним солдаты, пожилые и молодые, на одно лицо, усталые.
Дюжий, глубоко сутулящийся парень натужно выступает на полусогнутых. Он почему-то ошарашенно глядит на меня и неожиданно опускается на корточки. Крупные, раздавленные работой руки с силой сжимают между колен винтовку, конец штыка замысловато выписывает в воздухе нехитрое откровение. Из-под пузырящейся каски синяя тоска усталых глаз — доверчиво мне в зрачки, в дно души. И тихий, с придыхом, недоуменный, страдающий вопрос:
— И зачем?.. Ну, зачем воюют? А?..
Я, старожил фронта, обремененный шестичасовым — не менее! — опытом, побывавший на передовой, на всякий манер обстрелянный, я выпрямляюсь, чтоб не показать усталости, величаво марширую мимо, не снисхожу до ответа.
Да он и не ждал его…
Война есть, никуда не денешься, размышлять о ней поздно. Умей бороться — да, с ней, да, против смерти, да, за жизнь.
Нет, не тогда в моей зеленой, не созревшей до осмысления голове родились такие слова. Слова появились теперь, спустя с лишком сорок лет. Но навряд ли они и сейчас передают хотя бы приблизительно тот биологический иммунитет против отчаяния, возникший у меня в первые фронтовые часы. Он, иммунитет, оказался куда действеннее сознания. Мое сознание и до сих пор пасует перед роковым вопросом, вырвавшимся у встречного парня с винтовкой…
13Нагруженный катушками, я вернулся на покинутую огневую, там меня ждал Ефим. Он потемнел, усох, стал морщинистее, брови выгорели, выглядели седыми. Казалось, так давно расстались, что у бати наступила глубокая старость — как есть дед, прокопченный, жилистый и еще более замкнуто мудрый. Но мы оба живы и снова вместе.
Время, в которое мы теперь окунулись, не схоже с обычным, здесь минуты равны мирным неделям, часы — годам. А потому и встречи необычны, впечатляющи — ну-ка, изменились, но целы, могли б и не свидеться, уже подарок.
— Как ты там с тремя катушками справился?
— Справился. Я семижильный… Пошли, что ль?
Косматое солнце перевалило на сторону немца, висело над степью и уже не палило с прежней силой. Через степь из края в край гремящий поток, крутая кипень выстрелов и скачущее эхо взрывов. В небе, не затихая, шелестят снаряды — к нам, к нам, партия за партией, без отдыху.
Мы ползем по ровному полю, подминая под себя спелые хлеба, окруженные сатанинскими всплесками рвущихся пуль. В гуще пшеницы разрывные пули не столь и страшны, они больше пугают, действуют на нервы, для них даже встречная соломинка, тем более налитой колос, уже препятствие — рвутся, встречая их на пути. Но немцы-то били не только разрывными… Мы ползли, тянули за собой кабель, жались к бугристой земле, не смели поднять головы. Противник разошелся к вечеру. Наши пушки встали на прямую наводку. Стать на прямую — значит бросить вызов: играем в открытую! Кругом равнина, впереди лиловые дали. Орудийные расчеты торопливо работали лопатами, бросали красную глину, вкапывали пушки. У наиболее усердных над пшеницей торчат лишь стволы с настороженными пламегасителями.
Но здесь что-то случилось… Идут работы, мелькают лопаты, растут рыжие отвалы — и что-то замороженное, сковывающее в воздухе. Нет привычной в таких случаях суеты, никто не бегает, никто не кричит, голосисто не командует, молчаливый, сурово-сосредоточенный азарт.



![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)