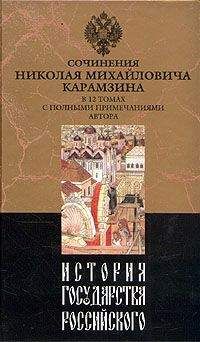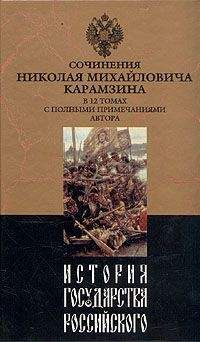Михаил Фонотов - Каменный пояс, 1987
Это была большая человеческая победа Марии Бакчеевой, делегата XXVI съезда партии, члена бюро обкома КПСС, Героя Социалистического Труда.
Виктор Окунев
ЧЕЛОВЕК ИЗ ОРГНАБОРА
Повесть без сюжета
На моем трудовом договоре стоит номер тринадцатый — разгонистым красным карандашом; выдали мне его в пункте оргнабора на Зацепе.
На Ленинградский вокзал приехал на такси, оставив позади аспирантскую свадьбу. Тридцатилетний жених иронически похмыкивал, уписывая за обе щеки, невеста — старше его на семь лет, вся какая-то ватная, раскрасневшаяся от волнения, — нервно хохотала, точно не веря, что она очутилась на своей свадьбе… Как водится, кричали «горько!» с долей иронии; невыразимо веяло студенческой вечеринкой; невеста ловила жениха за лацкан серого пиджака и тянула к нему толстые, прыгающие от волнения губы, похожие на розовую баранку. Жених, сдвигая глаза к переносице, прикладывался к баранке. Ирония, ирония владела им! «О-о-о!.. — кричали все, и снова: — О-о, какие молодцы!»
Тост мой, тем не менее, вызвал среди гостей легкий переполох. Я не стремился говорить красиво, я хотел сказать назло им, притом меня подтолкнули: «Люляев скажет, Люляев…»
— Ребята, ваша жизнь должна быть необычной, — сказал я. — За необычную жизнь!
Все вдруг уставились на меня. Жених перестал жевать и послал мне воздушный поцелуй.
— Необычной, как у тебя? — ехидно переспросила Ангелина.
Передо мной поплыло ее лицо с улыбкой: «Да, Люляев, да!» И я, встречая эту улыбку и ловя ее взгляд, который, казалось, говорил: «Если хочешь — ударь!» — сказал:
— Вот именно. Необычной. Как у меня!
Невеста махнула ватной рукой Ангелине, она как бы бросала нам что-то примиряющее. Она все видела и все слышала, эта невеста, несмотря на свое обморочное счастье.
В Москве шел вкрадчивый, обманный, нежнейший снег, когда я садился в поезд. Ангелина меня не провожала…
Не скучай!В поезде нас пятьдесят человек, набранных по оргнабору. Что же это за поезд? Москва — Мурманск? Ничего не помню, не знаю, завороженный силой, кинувшей меня на эту деревянную скамью. Еще плывет ее лицо, не прощая — прощается…
Мы выбрали неизвестность.
В нарочито шумном поначалу, а потом притихшем вагоне не скоро еще закипит лихое веселье. Когда все — трын-трава!.. Когда ищешь забвения в речи товарища, в его опустошенном лице, в чуждом внимании, в робком интересе. Сопровождает нас агент зацепский с портфелем, в котором, знаем, видели, наши трудовые книжки. Их у нас отобрали, и правильно сделали: иначе мы можем сбежать… Человек — существо мнительное, переменчивое, и одолевают его мечтания непотребные, непростительные… И глядит он вокруг себя — видит таких же мечтателей. И там мечтатели, и там!.. Кажется, вся Россия обратилась в одних мечтателей, едет и едет, — куда, зачем?
А впрочем, где мечтатели? Какие мечтатели? Партию вербованных сопровождает должностной человек с глухим лицом. Ему безразличны наши длинные тревоги и минутные радости. Его забота — довезти всех, ночь длинна, время распотешилось… Пятьдесят! Ни больше и ни меньше! Довезти и сдать другому такому же…
Мы не знаем, что нас ждет и какой будет жизнь: нас вербовали, не обещая многого. Но у нас, как видно, уже и не было иного выхода. По крайней мере, еще в Москве я вынужден был по настоянию оргнаборщиков подписать следующее:
«С условиями… знаком… согласен… предупрежден…»
И примешь все условия, и не знаю, с чем согласишься, и предупреждение проглотишь! И я подлежал ответственности, если бы не смог или не сумел отработать запроданные два года. Я на все был согласен.
В Кемь приехали поздним вечером, вокзал был новехонек и пуст. Однако, откуда ни возьмись, появилась милиция — молодые, красивые парни, ревниво озиравшие нас. Особенно выделялся один гигант, русоволосый, с пасмурными глазами и с капризно выдвинутой нижней губой.
— Не скучаешь? — спросил его кто-то невидимый из нашей толпы. И ласково добавил: — Не скучай! Мы вот не скучаем… Мы — веселые!..
Гигант тоскливо поискал его глазами, ничего не ответил, передернул широкими плечами так, что портупея на нем заскрипела, и ушел. Может быть, и он из мечтателей, и у него жизнь не сложилась?
Послонялись возле нас и ушли вслед его товарищи. Напрашивался вопрос: милиция-то чего встречать выходила? Ответ подразумевался, от людей из оргнабора, как видно, всего ждали…
Сели на чемоданы, узлы, посмеялись, заговорили. Но разговор прерывался на полуслове, и никто его не продолжал; глядели в окна — видели скупой свет, ночь и разыгравшуюся метель. Правда, чудились еще какие-то тени за метелью, — ожидали, что сейчас войдут люди и принесут весть, и обнадежат… Но так никто и не входил.
Агент где-то запропал, стали понемногу дремать, а когда совсем задремали, повалившись где придется, пришли машины.
Снаружи завывала белая тьма, сразу кинула снегом в глаза, залепила рот. Полезли куда-то вверх, по горбу, выше, выше — точно в низкое небо, в самую муть.
На ночевку устроили нас в общежитии. Семейные пары, ехавшие с нами, разлучили — поопасались чего-то, — то-то было крику! К тому же мужчинам предложили спать по двое на одной кровати — хочешь в обнимку, а хочешь валетом… Я кстати вспомнил каких-то западных путешественников, которые вот так же устраивались по двое в одну кровать.
В разбитые форточки сыпал снег, к утру он намел островерхую грядку на полу.
…Вижу всех нас словно со стороны.
На снегу — чемоданы, мешки, авоськи. Мы в поселке, конечной точке нашего путешествия. Лают собаки, скачут мальчишки; почему-то много мальчишек высыпало, крутятся перед вербованными, — взрослых мало.
Стоим как оглушенные, растерянно озирая белый свет: куда это мы попали? И на нас смотрят — что за люди? А между тем широко пронеслось — москвичи! Хотя какие мы москвичи? С бору по сосенке, рать вербованная, известная.
Растерянность первых минут мало-помалу преодолевается, и вот мы уже в конторе, перед кабинетом начальника строительства. Лестницу прошли, коридор. Тут и толпимся, смутно чувствуя, что мы, такие разноликие, чудесным образом сроднились, больше того, стали чем-то вроде единого организма — вопиющего о снисхождении, Страдающего, алчущего, ненажорливого, — но что, пожалуй, нашему единообразию приходит конец.
В кабинете начальника, куда мы наконец попадаем, — письменный стол и за ним человек. Сначала он никак не запомнился — начальник. Короткий опрос: кто такой, кем работал? Одновременно из общей стопы выхватывается твоя трудовая книжка. Беглый взгляд в нее, торопливо листаемые страницы… И на этих страницах ты, точно голый. Что ж, выше своей книжки, а значит, и выше головы, не прыгнешь? Кому нужна твоя доморощенная философия? Смешно: идея необычной жизни!.. Собственно говоря, почему смешно?
Я еще тогда не подозревал, что самое трудное и самое героическое, если хотите, — жизнь обычная.
Получаю назначение в комплексную бригаду плотников, бетонщиков, арматурщиков. Нашу партию постарались разбросать по разным стройучасткам, по разным работам…
А вот уже комендант ведет нас получать постели — стремлюсь за ним по неверной тропе. Не заметили, как свечерело, наш поселок Летний словно умылся водой из проруби: так грубо сини снега, столько синей мглы в низком небе.
Добираюсь до койки, сразу заснуть не могу: от усталости не спится, тревожит завтрашний день. Товарищи мои озабоченно гудят — мы едины в своих надеждах.
После службы в стройбате прошло три года, и где они, те полевые погоны — крест-накрест кирка и лопата на эмблемках! Но когда тупилась, съедалась кирка, когда бессильной была лопата, мы брали мерзлую землю клином и кувалдой, отогревали ее кострами. Счастьем было чувствовать согретую землю на ладони!..
Стройбат научил меня жизни в казарме, демобилизация вынесла меня в общежитие путейцев-ремонтников. Это был старый пассажирский вагон, вечный вагон, заселенный такими же, как я, демобилизованными… На работу мы выходили в солдатских бушлатах с отпоротыми петлицами.
…И если вы увидите теперь старые пассажирские вагоны на отдаленных путях, подсоединенные к электролинии, — знайте, что это мы!
…Вижу себя с кувалдой: сильно замахиваясь и низко приседая, я остервенело бью по зубилу. Зубило от таких моих ударов крошится, в рельсе, который мы рубим, видны тягучие разрывы. Вот и последний удар по головке рельса, он лопнул, простонав сердцевиной. Звук стона остекленел на морозе.
…Бредут три старухи с мешками оплечь. Станция Шаховская, я оставлен караульным при путейском инструменте. Ушел рабочий поезд, увез ремонтные бригады.
Сентябрь, ночи нахолаживаются, стоят окрест осенние горькие леса. И почему-то приходит чувство сиротства.