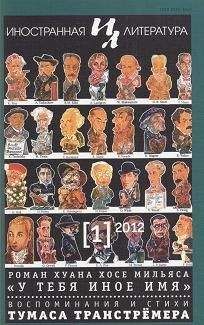Наталья Иванова - Точка зрения. О прозе последних лет
«Во все эпохи, — замечает Лидия Гинзбург в своей книге „О старом и новом“, — обыватель наряду со своим обиходным, разговорным языком (средним штилем) имеет и свой высокий обывательский стиль, закрепляемый в литературе. Это, так сказать, провинциальная литература, не потому, что она непременно издается в провинции, но потому, что она… подбирает упавшие слова в тот момент, как они теряют свой смысл. Слова пустые, как упраздненные ассигнации, слова, не оправданные больше ни творческими усилиями, ни страданиями, ни социальными потрясениями».[26]
Изображение частной жизни человека — скажем, в рамках семьи — может иметь двоякий результат. Замкнутое, принципиально изолированное от «ветра истории», оно грозит оказаться лишь самоценным бытописательством. Насыщение таких произведений псевдоактуальными деталями, увядшими производственными конфликтами лишь подчеркнет при этом герметизм авторской мысли. Но изображение частной жизни может и повести автора вглубь, к острым, общественно важным проблемам.
Эти тенденции отражаются не только на характерах и конфликтах, но и на самом повествовательном облике прозы, на ее языке.
Нельзя не отметить свойственную повести Г. Семенова «Городской пейзаж» живописность пейзажей, пластичность описаний, прозрачность освещенной естественным светом натуры. Но повесть эта по смыслу гораздо крупнее заголовка. Эта повесть, в отличие от других последних «объемных» вещей Г. Семенова, социальная.
За внешним лукавством, за присказкой авторской — неравнодушная мысль о жизни, о том, как мы живем: с «утренней душою» или же как придется. О напрасно загубленном празднике, на который мы все призваны жизнью.
Интеллигенты не в первом поколении, братья Луняшины внешне резко отличны. Борис — человек, обменявший наследственную духовность на сытую, неправедно добытую, богатую жизнь. Федор — с его метаниями и отчаянием — заявлен как духовная личность.
Автор ведет свое повествование, управляя им косвенно. Как он пишет в авторском отступлении, объясняя свою позицию, — «не прибегая к прямой критике», а лишь продолжая рисование «ускользающих черточек характеров», рассказывая «именно об образе жизни, а не о делах людей, считая, что судить о людях можно по их образу мышления и по жизни, какую они ведут, а вовсе не по делам, потому что и порядочный специалист может быть человеком непорядочным».
Размышлениям героев на страницах «Городского пейзажа», действительно, отведено много места; философом доморощенным называет Борис Федора, но и сам не прочь пофилософствовать. «Цель жизни — жизнь», — внушает он брату. Федор вначале не может поверить в такое элементарное оправдание существования, но постепенно, под сладким бременем «кормящей» жены Раи, родившей ему трех близнецов, приходит к такому, же выводу.
Но что-то в его душе сопротивляется, он начинает понимать, что «эта жизнь… совсем не обязательна для него и что раньше он был для чего-то нужен, была у него какая-то цель, а теперь трагическая необязательность именно этой жизни, какой он жил, смущала его и заставляла искать нечто высшее в самом себе…» Никакого иного спасения, чем «простое дело — отмытый ли круг сплющенного ведра, выстиранные ползунки», — которое стало бы для него большим и важным, он не находит. Но спастись выстиранными ползунками еще никому не удавалось. Опять закольцовывается все та же настойчивая Борисова формула: «цель жизни — жизнь»… Вырваться за ее пределы Федору не удается, как бы он ни пытался. В целях избавления от мук самосознания он даже занимается самовнушением: «Жизнь — это дело. А любое дело надо исполнять хорошо. Иначе не стоит браться и тратить время. А как же иначе? Я хорошо живу». А ведь были у Федора какие-то туманные цели, говорил он в свое время Марине, что еще горы свернет: «То ли еще будет!» Но все надежды идут прахом: «Благих намерений у меня хоть пруд пруди, а где, как их применить? Да и потом, чтобы они восторжествовали, эти мои намерения благие, надо сначала зло вырвать с корнем. А я не умею. Не могу в этом достичь ничего, поэтому и не хочу ничего. Потому-то и радуюсь жизни, у которой цель — просто жизнь! Инфузория!» Федор не случайно говорит о том, что ему хотелось бы «чечевичной похлебки». В конце концов за «чечевичную похлебку» Федор смиряется со своим приземленным существованием.
Г. Семенов недаром делает своих героев родными братьями. Это не случайная краска, а концепция. Казалось бы, столь противоположные по своей внутренней природе бесцельно рефлектирующий Федор и сугубый материалист, «хищный» тип Борис — две стороны одной медали. Г. Семенов обнаруживает родственную близость двух этих типов жизненного поведения. Прекраснодушный фразер Федор замечательно устраивает свой быт на неправедные деньги Бориса, не задумываясь о том, откуда эти деньги могут появиться.
Но если писатель предъявляет свой счет героям-интеллигентам, то и читатель тоже вправе предъявить ему свой. Так как «Городской пейзаж» — вещь очень даже продуманная, то остановимся на двух ее аспектах.
Первое: во всем виновата цивилизация. Город. Внешняя его красота — флер, мираж. За перламутровой дымкой — обшарпанные дыры подъездов, в одном из которых теряет невинность героиня. Миражность этой красоты еще более подчеркнута сквозным образом-символом иллюзиона, замонтированным тем, что Борис работает на киностудии; в повести то и дело вспыхивают ассоциации с неверным, дрожащим миром экрана: Федор подбирает на шоссе ведро, расплющенное автомобилем, и видит в нем свой собственный печальный итог: «Глупое ведро, упавшее на дорогу… Все расплескал, всю свою родниковую воду…».
Идея не новая, столь же прямолинейная, сколь бесперспективная. Согласиться с ней — значит не только предъявить счет, но и подписать приговор: как хапугам типа Бориса, так и рефлектирующим мечтателям. Свести их всех к Федору, к его печальному итогу.
Второе: философствование бесплодно. Философствование — да, конечно, но философствование еще не лишает интеллигента права на мысль, на настоящую философию. А этого права автор своим героям не дает. Или — или: или нувориш, или фразер.
Не желая «взять в эмоциональный плен», «покорить волю и рассудок» читателя «нарочитой непохожестью» стиля, Г. Семенов выбирает для повествования ровный стилистический рисунок. Оживляется этот рисунок тогда, когда появляются второстепенные, «фоновые» персонажи с экспрессивно окрашенной речью. Таков, например, разговор «на разных языках» — книжно-возвышенном и вульгарно-просторечном — матери и свекрови Раи Луняшиной, принадлежащих к разным социальным группам:
«— Не стали бы водку пить, — говорила она с неожиданным азартом, — все бы пьяницы воскресли, стали бы толковыми человеками… — И умолкла, поджав губы.
Лишь одна Нина Николаевна, в алюминиево-светлом взоре которой всегда теплилась мудрая и несказанно нежная доброта, поддерживала ее, говоря тоже нечто неожиданное и не относящееся ни к чему:
— Я помню, картина была в старом учебнике истории, портрет — энергичное лицо Кромвеля, которое мне почему-то страшно нравилось. Я влюблена была в Кромвеля. Даже подруге своей призналась, а она вытаращила глазенки: ой, говорит, Ниночка, какая ты высокая натура! Так и сказала: „высокая натура“… Сейчас смешно вспоминать, а ведь действительно — были какие-то очень высокие идеалы… Я с вами совершенно согласна.
— Ну да, — говорила Раина мать. — Сейчас ведь мужчины как больные кошки, так бы и пристукнула! То из дома просится, мяучит, то обратно в дом пусти его, а то опять на улицу… Не знаешь, что и делать, как быть. До войны люди лучше были.
— Вы не огорчайтесь, — успокаивала ее Нина Николаевна, с участием разглядывая ее. — Вы всегда должны помнить, что затруднение — первая стадия чуда».
Использование характерологического окрашивания речи персонажа — распространенный прием. Намерения и Г. Семенова, и В. Михальского были благими — одним-двумя «голосовыми» штрихами обрисовать человека. Но почему же этот прием не срабатывает? Если автор вынужден в художественном тексте пояснять читателю свой конкретный прием, то языковой «эпизод» становится неизбежно искусственным. Либо — если в маленьком эпизоде, выпадающем из общей ткани повествования, усиленно концентрируются языковые «черты» героев — он читается как вставной номер, который не связан внутренними отношениями с основной повествовательной тканью. Характерологические оттенки слова используются писателем как «красочка» (говоря его же, Г. Семенова, словом). В повести есть даже разговор о «красочке» как об одной из проблем художественной речи:
«А мне не нравится велелепный, — отвечала ему Пуша… — И вообще я против всяких непонятных слов, всяких диалектов. У нас некоторые писатели умеют… так понапишут, что ничего не поймешь… Язык обрабатывать нужно, чтоб он простой был и доходчивый. А некоторые наоборот… надергают всяких слов, напихают их в свои романы — ни за что не догадаешься, что оно обозначает такое». Пуше возражает Федор: «Я, например, тоже не понимаю иной раз какое-нибудь диалектное слово, ну что ж! Зато я знаю, что автор это слово понимает и, видимо, не зря дал красочку…»