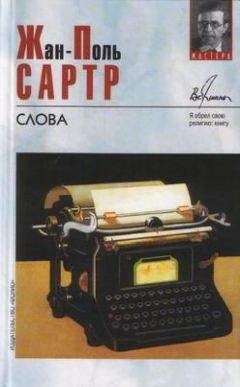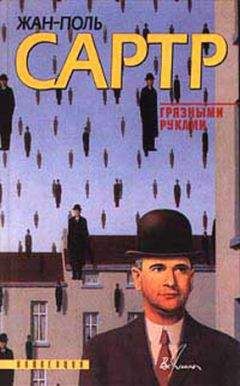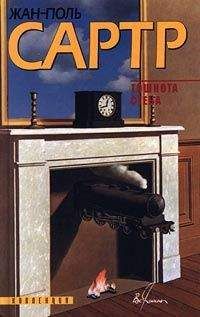Жан-Поль Сартр - Что такое литература?
Теперь мы можем определить круг читателей Райта. Он обращается к культурным неграм Севера и белым американцам доброй воли (возможно, левым демократам, радикалам), рабочим из Конгресса производственных профсоюзов.
Это не следует понимать, что через их голову он не обращается ко всем людям. Но все равно это обращение идет через их голову. Вечная свобода тоже маячит на горизонте исторического, данного освобождения, стремящегося к ней. Да и сама всеобщность рода человеческого просматривается на горизонте конкретно-исторической группы его читателей.
Область абстрактных возможностей вокруг реальных читателей образуют неграмотные черные крестьяне и южные плантаторы. Ведь неграмотный может научиться читать, а "Black Boy" оказаться в руках самого заядлого негрофоба и изменить его. Это только означает, что любое человеческое действие выходит за пределы данного факта и постепенно распространяется до бесконечности. Нужно заметить, что внутри реальной публики есть ощутимая трещина. Черные читатели для Райта – субъективность. У них было одно детство, те же комплексы. Они понимают друг друга с полуслова, сердцем. Через обобщение своего личного жизненного опыта Райт объясняет им их самих. Их будни, ежедневные проблемы, все это, страдая и не находя слов, чтобы описать эти страдания, писатель продумал, назвал, показал им. Он стал для них их сознанием, движением, через которое они возвышаются над буднями и приходят к пониманию своего положения в жизни. Это движение всей его расы.
При всей своей доброжелательности, белые для него будут олицетворением Чужого. Они сами не выстрадали того, что выпало ему. Им доступно понимание положения негров только в ограниченных пределах, с большим усилием, находя аналогии, постоянно грозящие оказаться неверными.
С другой стороны, Райт не так хорошо знает белых. Он лишь извне видит горделивую безопасность их жизни и спокойную уверенность, свойственную всем белым арийцам, что мир бел, и они – его хозяева. Для белых слова, написанные Райтом на бумаге, имеют совершенно другой контекст, чем для черных. Поэтому он вынужден бросать их наугад, потому что писатель не знает точно, какой отклик они получат в этих чужих умах. И когда он с ними говорит, его цель становится другой: их нужно скомпрометировать и заставить почувствовать стыд.
Поэтому в каждом произведении Райта есть то, что Бодлер назвал бы "двойным симультанным постулатом". Каждое его слово наполнено двумя контекстами, к каждой фразе прикладываются одновременно две силы, определяющие удивительное напряжение его повествования. Говори он только о белых, он мог бы стать слишком многословным, оскорбляющим. Ограничь он себя только черными, произведение стало бы более сложным, более элегическим.
В первом случае, его творчество можно было бы отнести к сатире, во втором – к пророческим жалобам: Иеремия обращался только к евреям. Но Райт, обратившийся к разобщенной публике, сумел устоять и преодолеть эту разобщенность. Он сделал ее предлогом для произведения искусства.
Писатель по природе потребитель, а не производитель. Это верно даже тогда, когда он отдает свое перо интересам общества. Его продукция остается бесполезной, а значит, не имеющей цены. Ее рыночная стоимость устанавливается произвольно. Иногда писатель состоит на содержании, иногда получает процент от продажной стоимости своих книг. Все зависит от эпохи, когда он живет. Но положение всегда одно: при старом режиме между королевской пенсией и поэмой, и в современном обществе между произведением искусства и полученным за него гонораром нет точного соответствия. По сути, писателю не платят, его кормят. Насколько хорошо – зависит от эпохи. По-другому не может и быть, потому что его деятельность бесполезна. Дело в том, что вовсе не полезно, а порою даже вредно, чтобы общество осознавало себя. Полезность определяется в рамках сложившегося общества, причем, относительно его институтов, принятых ценностей и уже готовых целей. Если общество вдруг увидит себя, а главное, осознает себя увиденным, сам этот факт уже оспаривает принятые ценности и общественный режим. Писатель демонстрирует обществу его изображение, и этим требует или отвечать за него, или измениться. В любом случае, оно меняется, теряет устойчивость, основанную на незнании, колеблется между стыдом и цинизмом, показывает свою нечистую совесть. Так писатель наделяет общество несчастным сознанием и поэтому находится в постоянном антагонизме с консервативными силами, стремящимися сохранить то равновесие, которое он хочет нарушить. Переход к опосредованному, способный произойти только через отрицание непосредственного, есть непрерывная революция. Лишь правящие классы могут позволить себе эту роскошь оплачивать столь непродуктивную и опасную деятельность. В этом и особая тактика, и недоразумение. Обычно недоразумение: избавленные от материальных забот, представители правящей элиты внутренне столь свободны, что могут пожелать самопознания через свое отражение. Они обязывают художника показать им их образ, не понимая, что придется за него отвечать. А иногда в этом своя тактика: почуяв опасность, они платят художнику, чтобы управлять его разрушительной силой. Но реально художник действует вопреки интересам тех, кто дает ему средства к жизни. В этом основной конфликт, определяющий его положение. Бывает, что этот конфликт проявляется открыто. До сих вспоминают о придворных, обеспечивших успех "Женитьбе Фигаро", хотя это была отходная старому режиму. Иногда этот конфликт замаскирован, но он есть всегда. Назвать – значит показать, а показать – значит изменить.
С одной стороны, этот спор, вредящий установившимся интересам, пусть в малой мере, способствует изменению режима. С другой стороны, угнетенные классы не имеют ни времени, ни привычки к чтению. Поэтому, объективно этот конфликт может выражаться в форме антагонизма между консервативными силами настоящих читателей и прогрессивными силами читателей потенциальных. В бесклассовом обществе, внутренней структурой которого стала бы постоянная революция, писатель мог бы стать посредником для всех. Его извечный конфликт с режимом мог бы предшествовать или сопутствовать реальным изменениям. В этом, мне кажется, глубокий смысл, который необходимо вкладывать в понятие самокритики. Увеличение реальной аудитории до размеров аудитории потенциальной примирило бы в сознании писателя враждебные тенденции, и до конца свободная литература превратила бы негативность в необходимый элемент созидания.
Но такого общества, насколько мне известно, нет. Весьма сомнительно, что оно вообще возможно. Значит, конфликт есть, он находится в основе того явления, которое я назвал бы перевоплощением писателя и его нечистой совести.
В самом простом варианте мы это видим в случае, когда потенциальных читателей практически нет, а писатель находится не на окраине привилегированного класса, а внутри него. В этом случае литература определяется господствующей идеологией, обдумывание происходит внутри класса. Спор возможен только о частностях во имя неопровержимых принципов. Например, в Европе XII века клирик творил только для клириков. Но он мог позволить это себе с чистой совестью, потому что был разрыв между духовным и временным. Христианская революция привела нас в эру духовности. Это пиршество самого духа как отрицания, несогласия и трансценденции, постоянного строительства, по другую сторону царства Природы, антиприродного града свобод. Здесь было важно, чтобы эта универсальная сила, способная стать больше объекта, поначалу была признана как объект. Непрерывное отрицание Природы должно было предстать как природа, способность постоянно создавать идеологии и бросать их на своем пути должна была воплотиться в конкретную идеологию. Духовность в первые века нашей эры находится в лоне христианства. Можно сказать, что христианство и есть духовность, но отчужденная. Дух здесь стал объектом. Сначала духовность предстает не как общее и переходящее из поколения в поколение дело всех, а как специальность только избранных. Средневековое общество имело духовные потребности. Чтобы удовлетворить их, оно создает корпус специалистов. В наши дни мы считаем чтение и письмо правом человека и средством общения с Другими. Это для нас почти столь же естественно, как устная речь. Поэтому даже самый забитый крестьянин – потенциальный читатель.
Во времена грамотеев-клириков это были технические инструменты только для профессионалов. Они не использовались как упражнения для ума, не имели целью сделать доступным тот широкий и расплывчатый гуманизм, который позже назовут "классическим образованием". Только они были единственным средством сохранения и передачи христианской идеологии. Научиться читать – значит владеть инструментом для понимания и знания священных текстов и бесконечных их комментариев. Уметь писать – означало уметь комментировать. Другие не старались овладеть этой профессиональной техникой, как мы сегодня не хотим овладеть техникой столяра или архивариуса, если имеем другое ремесло. Бароны оставили духовенству заботу о производстве и сохранении духовности. Сами они не могли контролировать писателей, это делает сегодня читающая публика. Самостоятельно они не смогли бы отличить ересь от ортодоксальной веры. У них вызывает протест только использование папой светского меча. Вот тогда они грабят и жгут все подряд только потому, что доверяют папе и никогда не упустят возможности грабежа.