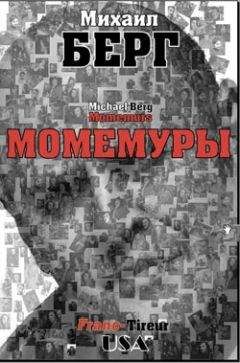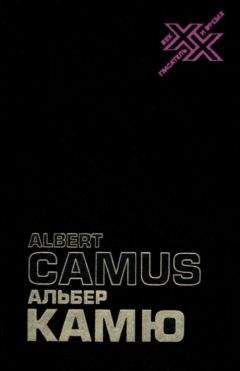МИХАИЛ БЕРГ - ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА
Истина – это то, что не зависит и не меняется от времени. Поэтому не людское мнение, а время является единственным критерием всего. Блестящую этимологию слова «рок» предложил Флоренский: рок – это год, лето, срок. Рок, тяготеющий над нами, не ножницы злой парки смерти Антропос, а – Время. Смерть – это мгновенное время, а Время – длящаяся смерть. Флоренский, как и все энциклопедисты, наиболее силен в примечаниях: это его стихия, настоящее поле его деятельности – заметки на полях. В открытом же тексте он бурлит, сердится, понимая, что растянул резину до невозможности, и, не умея справиться с собственными антиномиями, разводит длиннющие антимонии.
Если поднести морскую раковину нашего времени к уху, то завитое воронкой эхо прошепчет одно имя: Иван Иванович Хлестаков. Как характерно, что любимым писателем современной интеллигенции является именно он – русский аристократ, сын деятеля кадетской партии, прославившийся эротическим бестселлером, написанным по-английски. Соль переиначенного выражения «скажи, кто твой любимый писатель, и я скажу тебе – кто ты» жжет только тогда, когда можно отплатить той же монетой. Иван Иванович Хлестаков, зарабатывающий на жизнь преподаванием русской литературы в американских университетах, сам располагал писателей по рангам и заставлял студентов записывать эту систему в тетради и выучивать ее наизусть. «Тот, кто предпочитает Достоевского Чехову, никогда не поймет сущности русской жизни»,- говаривал Ив. Ив. Хлестаков и смело расставлял оценки за прозу: Толстой – «5 с плюсом», Пушкин, Чехов – «5», Тургенев – «5 с минусом», Гоголь – «4 с минусом», Достоевский – «3 с минусом или 2 с плюсом». Литература нашего века состояла для него из «Метаморфозы» Кафки, первого тома Пруста, «Петербурга» Белого, «Улисса» Джойса – и, конечно, из всех сочинений Ив. Ив. Хлестакова.
Что представляет собой проза самого Ивана Ивановича, этого двуязыкого демиурга (перескочившего с одной лошади на другую, когда для первой не стало вдруг корма)? Это молоко с неснятой пенкой, пористой, как собачий нос. Или – исчерканное пируэтами зеркало тонкого льда с изысканными кривулями и узорами, которые оставили острые, как лезвия «жиллетт», коньки автора. Тесная, точно императорский вензель, вязь с косицами вплетенных театральных звуков, ручейков запахов и акварельных красок, взятых напрокат у сценических декораций памяти. И никто не заметил, что Ив. Ив. Хлестаков – гравировальщик на тонкой и прочной пластине, – пожалуй, самый искусный и красочный мастер плоского письма из тех, кто рождался на полынной русской почве. Сеть ложных ходов умело построенного сюжета, ловко распределенные композиционные массы, изысканность и точность приятного на вкус и цвет прозаического слова легко улавливают читателя, заинтригованного литературным снобизмом автора. Иван Иванович, милостивый государь, господин Хлестаков, мастер изогнутых, точно носки турецких туфель, слов и гностически прозрачных предметов, напоминающих реквизит провинциальных школ рисования в виде восковых груш и голо-гипсовых античных голов. Нет, русского читателя поражает не двухмерность писательского пространства (когда он, читатель, привык к сумасшедшей трех- или четырехмерности русской литературы), не отсутствие теней и полутеней, а те узкие беговые дорожки, которые он отводит своим персонажам. Все они (персонажи) перемещаются словно по линиям, проведенным мелом на полу, как по марионеточным нитям, будто их обуял бес одного (всегда одного!) идефикса. То же самое делал в литературе когда-то и презираемый Иван Ивановичем Федор Михайлович, только идеи его героев были заведомо неосуществимы, что и заставляло их метаться, говорить не своими словами и выворачиваться перед читателем наизнанку. Тут не до правильности речи, когда под рукой не характеры, а лабиринты, не одноколейные маршруты, а многорельсовые эстакады, тут, право, не обойтись без блаженного косноязычия. Дверь открывается – входят двое, толстый и тонкий. «Каждому свое»,- говорит толстый. «Сам дурак»,- отвечает тонкий и сердито мнет в руках грузинскую кепку-аэродром. И все-таки приятно иногда послушать журчащую гирлянду водопроводной речи, будто мальчишки-проказники переливают воду в литровых стеклянных банках над ухом спящего товарища, ожидая, что тот сделает со сна в постельку «пи-пи»; фиолетовый мрак за окном прижимает свое лицо к стеклу, занавески вспархивают от сквозняка, как длинные фалды дирижерского фрака, и тишина стоит на цыпочках, прислонившись спиной к стенке. И все-таки не было в русской литературе более нерусского писателя, чем почивший в бозе Иван Иванович: хорошо-с, приятно-с, странно-с.
Поэтический талант Пушкина весьма вероятен. Правда, такой ценитель поэзии, как Толстой, отказывал ему в нем: Толстому нравилось единственное стихотворение Пушкина, за исключением неточного эпитета, который портил текст, делая его претенциозным. Правда, почитатели Пушкина читали не его, а отпечатки пальцев на масленой бумаге и, листая книжечку из собрания сочинений, копались в пушкинском грязном белье, которого немало, и еще кое в чем. И все-таки поэтический талант Пушкина очень вероятен. Невероятно его положение в истории литературы; но и на это есть причины.
Воспитание на авторитете напоминает стрельбу по мишеням: чем их меньше и чем они крупнее, тем легче попасть. В глубокой тени Пушкина шелестят подростковые шаги безумного Батюшкова, пропадают контуры нечистого на руку Боратынского, Тютчев трет нос и плачет сквозь чеховское пенсне.
Теория прогресса в литературе изъедена молью, как бабушкино шерстяное платье или как теория диктатуры пролетариата. Из Пушкина-эгоцентрика делают Пушкина – члена ВКП(б), а мальчишеское озорство, вызванное щекотливым отсутствием общественного положения и досадной бедностью дырявого Михайловского, возводят в ранг высоких убеждений.
Сразу после 14 декабря Пушкин писал князю Вяземскому: «Я, конечно, презираю мое отечество с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и… – то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песни Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь перечтешь его и спросишь с милой улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно – услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится – ай да умница».
Под конец своей жизни Пушкин высказался еще более определенно: про русский бунт, «бессмысленный и беспощадный», про тех, кто замышляет у нас невозможные перевороты, «ибо они молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердечные».
Будучи несомненно настоящим, поэт многолик, как Будда. У каждого свой Пушкин, как свой паспорт. В пятидесятые годы воздушные шары были дефицитом. Сообразительные отцы надували неиспользованные презервативы и вручали их сыновьям, идущим на демонстрацию. Достоевский в Пушкинской речи надул шарик своим воздухом. Быстроногая Татьяна Ларина, раздеваясь на ходу, как манекенщица, зашла в телефон-автомат и, прикрепив искусственную бороду, сгорбившись, как старец Зосима, снова вышла на улицу русской литературы. Зачем, спросите, он это сделал? Опытные истопники знают, что одно полено всегда гаснет, два, положенные с просветом и параллельно, дают концентрированное тепло.
Нет, я не протестую, я недоумеваю. Разве поэт – джокер в игре без козырей? Пушкин, прекрасно знавший, что в котле литературы любое убеждение меняет цвет и становится приемом, с удовольствием плевал на любознательных дураков и стеснительных почитателей:
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Нет ничего оскорбительней для настоящего поэта, чем шум комариной возни вокруг его имени и фамильярное похлопывание по плечу «пушкиноведов в солдатских шинелях». Народные тропы не зарастают к гипсовым памятникам культа и к общественным уборным: в обоих случаях признательные почитатели мочатся у соседней стены.
Пристальное внимание подозрительно: оно компрометирует. Братья Гонкуры уточняют: «Красота – это то, что вызывает инстинктивное отвращение у нашей кухарки и нашей любовницы». Искусство не элитарно, а функционально, и в этом настоящее искусство отличается от ненастоящего.
И все-таки поэтический талант Пушкина весьма вероятен.
Ночью Собакевичу снился сон: будто открывает он дверцу шкафа, скрипящую, словно подагрический сустав, и видит в шкафу Собакевича с рожей, как буфет. «Ты кто?» – спрашивает Собакевич. «А ты кто?» – отвечает Собакевич. «А вот я тебя!» – говорит Собакевич и вынимает изо рта Собакевича с рожей, как буфет. Маленький Собакевич, стоящий на ладони, вытаскивает из кармана спичечный коробок, раздвигает ему ноги, а там тоже сидит хмурый Собакевич, с угрюмой пергаментной гримасой на лице, и даже бровью не ведет. «Ты посмотри на себя в зеркало,- говорит Собакевич,- на кого ты похож?» – «Ну, и на кого?» – спрашивает Собакевич с рожей как буфет. «На буфет, – отвечает Собакевич, – то есть – на Собакевича».