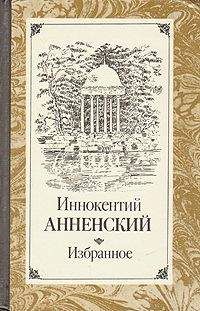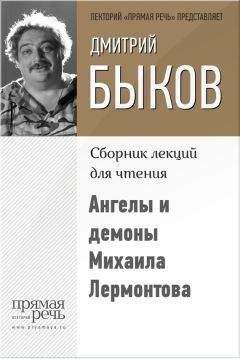Анатолий Луначарский - Том 4. История западноевропейской литературы
Журнал «Европа», — журнал передовой, но вместе с тем пацифистский, — по поводу 60-летия Ромена Роллана издал целый чествующий его сборник5. Так как я лично был в хороших отношениях с Роменом Ролланом и неоднократно писал о нем и у нас, в русской печати, пожалуй, был одним из первых, кто вообще стал говорить о Ромене Роллане как о звезде первой величины (это было давно, лет двадцать пять тому назад)6, — то редакция «Европы» обратилась и ко мне с просьбой дать приветственную статью Ромену Роллану […]
В моей небольшой статье о Ромене Роллане7 я написал, между прочим, следующее:
«Среди нас распространено мнение о Ромене Роллане почти как о враге. Пацифистская пропаганда Ромена Роллана, несмотря на все свое гуманное благородство, является попыткой оторвать от нас некоторые сочувствующие нам элементы или элементы, которые могли бы нам сочувствовать. Его превосходные чувства являются для нас туманом, который прячет от людей жестокие очертания подлинной действительности. Пропаганда Ромена Роллана, старающаяся подменить острые формы борьбы словесными убеждениями, влиянием примера и т. д., в глубине вещей делает его союзником II Интернационала, главной задачей которого является распространение добродетели долготерпения в пролетарских массах».
Тип подобного человека, не только глубоко благородного вообще, но, в сущности говоря, как это я указывал в моих этюдах о Короленко, очень ценного в те годы, когда борьба прошумит и когда мы начнем строить действительно братскую жизнь, перековывая мечи на орала, тип такого человека, который в силу несвоевременности своего некритического братолюбия становится на самом деле врагом своего идеала, ибо отрицает, портит, саботирует единственные пути, которые на самом деле ведут к победе, к миру на земле, — меня очень интересовал. Я посвятил этому типу мою пьесу «Освобожденный Дон Кихот». Я считаю возможным упомянуть здесь о ней и даже в некоторой степени обратить на нее внимание тех читателей, мимо которых она прошла, потому что в последнее время она и в Европе приобрела некоторый вес. В настоящем она уже более сорока раз, все время при полном зале, прошла в одном из больших театров Берлина.
Курьезно, что т. Герцог в том же номере «Европы»8, посвященном Ромену Роллану, даже делает сопоставление между Роменом Ролланом и моим Дон Кихотом и указывает на то, что если бы мой Дон Кихот был лишен черт некоторой дураковатости и чудачливости, то я, быть может, больше ударил бы по врагу. Впрочем, Герцог в своей статье не столько заботится о болезненности удара по этому пацифистскому врагу, сколько о том, что в таком случае пьеса приобрела бы большее «социально-психологическое значение».
Я позволю себе не согласиться с этим. Во-первых, мой Дон Кихот не только дураковат и не только чудак; мой Дон Кихот одаренный художник и мечтатель, человек с мягким и благородным сердцем, человек по-своему вдумчивый. Меня, с другой стороны, упрекали как раз в том, что я «этого врага взял слишком мягко и слишком симпатично». Характерно, что во время работы над этой пьесой в театре Корша изображавший Дон Кихота артист Леонтьев говорил мне, что питает огромную симпатию к этой роли и что, не в обиду-де будь мне сказано, Дон Кихот, по его мнению, есть положительный тип. Когда театр «Volksbühne» приступил к постановке моей пьесы, то возник конфликт между высоко даровитым коммунистом режиссером, взявшимся за ее сценическую обработку, т. Пискатором, и одним из крупнейших артистов Германии — Кайслером, приглашенным исполнить роль Дон Кихота. Пискатор хотел придать Дон Кихоту возможно больше конкретных черт. Кайслер хотел сыграть его (и сыграл) в тонах торжественных и серьезных.
Герцог из этого мог бы заключить, что я вовсе не так полемически мелко изобразил моего Дон Кихота. Но пойти в этом направлении еще дальше, лишить Дон Кихота черт известного добродушия, бессилия, безыскусственности, свойственной интеллигенту непрактичности, известных благородных сумасбродств — значило бы уйти от действительных черт трактуемого типа.
Я почти уверен, что Ромен Роллан не знает моей пьесы, иначе можно было бы сказать, что его последняя драма «Игра любви и смерти»9 означала бы, так сказать, поднятие перчатки и очень крепкий ответ ударом на удар. Повторяю, Ромен Роллан, конечно, не знает моего Дон Кихота, но это нисколько не меняет дела. Я знаю, что такое ролландизм10, а Ромен Роллан знает, что такое революция, и давно уже болеет ею. Он ее уважает и ненавидит. Он уважает ее за то, что она есть самоотверженный путь к великому расцвету правды на земле. Он ненавидит ее за то, что путь этот есть борьба, власть и террор.
Если Ромен Роллан мучительно страдал уже Великой французской революцией и сравнительно молодым человеком посвятил ей такие замечательные этические драмы, как «Волки» и «Дантон», то проблема эта стала для него еще более раздирательной при свете русской революции. Ведь никакого сомнения не может быть, что знаменитая переписка Барбюса и Ромена Роллана, в которой Барбюс меткими чертами указывал насилию необходимое место в излечении человечества, а Ромен Роллан ловко скроенными софизмами, сдабриваемыми мнимой иронией, но с явным дрожанием губ и беспокойством во взоре, по-толстовски возражал ему, — что переписка эта11 была довольно тяжелым переживанием для Ромена Роллана.
В предисловии к новому своему произведению «Игра любви и смерти» Ромен Роллан говорит о целом цикле, который он хочет посвятить проблемам революции12. У него намечена еще пьеса «Робеспьер»13, и, как мы знаем, им уже закончена очень интересная предреволюционная пьеса «Цветущая пасха»14.
Из этого же предисловия мы узнаем, что, кроме частных, к данной пьесе относящихся, заинтересовавших Ромена Роллана штрихов (жажда увидеть любимую женщину хотя бы ценою жизни и т. д.), основным носителем центральной идеи является Курвуазье, в самой фамилии которого надо-де слышать отзвук великих имен Кондорсе и Лавуазье — этих жертв революционного террора15.
Да, конечно, Ромен Роллан не из тех мелких драматургов, порою, может быть, и очень искусных, которые хотят привлечь публику. Для Ромена Роллана театр есть прежде всего место, с которого раздается сильная проповедь, тем более сильная, чем органичнее связана она с чисто художественным потрясением публики. Пропагандирующая драма, если она головная, почти никогда не действует на публику, во всяком случае не больше, а скорее меньше, чем простая речь или хорошая статья, быть может, того же автора. Но если творческое, подсознательное «я» поэта, подъемлясь из глубины его слагающегося с силою и убедительностью яркого сновидения быта, вступает в органическую связь с центральной идеей, которой пьеса должна служить, тогда мы имеем перед собою то, чем должна быть трагедия, драма, да и комедия. Все действительно великие или просто значительные произведения драматургии относятся к этому типу. Мы имеем, конечно, и некоторое количество глубоко художественно прочувствованных творцом пьес, не увенчанных никакой идеей. Но такие произведения дают впечатление смутное, ибо драма, в которой отсутствуют этические начала, в сущности перестает быть драмой, как бы самые конфликты людей ни были при этом сильны. Быть может, только титанический гений Шекспира давал ему возможность производить великие театральные поэмы без сколько-нибудь определенной этической тенденции, но это потому, что у Шекспира всегда есть одна основная тенденция, а именно, что жизнь прекрасна и ужасна. При мощности чисто художественного шекспировского гения одно это потрясение обостренным разнообразием жизни, при таящемся под каждым ее благоуханным цветком ужасе, уже представляет собою целое миросозерцание. Шекспир, в его бестенденциозных драмах, никоим образом не может быть учителем жизни, но он очень сильно способствует расширению и углублению сознания публики, к которой обращается, ибо создает фон на, так сказать, глубокой, серьезной влюбленности в жизнь, без которой нет настоящей жизненной силы. Поэтому мы всегда приветствовали и приветствуем шекспировский театр и считаем его очень важным для тех классов и поколений, которые теперь вступают в культурное строительство и должны вооружаться многим, что хранилось до сих пор буржуазией и буржуазной интеллигенцией для себя в их собственных арсеналах. Но иные из гениальнейших пьес Шекспира имеют, несомненно, свою вполне определенную этическую и подчас даже политическую идею. Сейчас, конечно, не время разбираться в них и указывать, что в них живо и что мертво. Тема эта принадлежит к числу интереснейших, она лишь отчасти намечена мною в моих, изданных в двух томах, читанных в Свердловском университете лекциях по западной литературе16, и я когда-нибудь вернусь к ней;17 а пока надо вернуться к сегодняшней теме, к новому замечательному произведению Ромена Роллана.