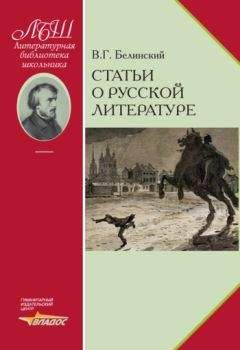Николай Добролюбов - Статьи о русской литературе (сборник)
Да, со времени Герцена и Милля мещанство сделало в Европе страшные успехи.
Все благородство культуры, уйдя из области общественной, сосредоточилось в уединенных личностях, в таких великих отшельниках, как Ницше, Ибсен, Флобер и все еще самый юный из юных – старец Гёте. Среди плоской равнины мещанства эти бездонные артезианские колодцы человеческого духа свидетельствуют о том, что под выжженной землею еще хранятся живые воды. Но нужен геологический переворот, землетрясение, чтобы подземные воды могли вырваться наружу и затопить равнину, снести муравьиные кучи, опрокинуть старые лавочки мещанской Европы. А пока – мертвая засуха.
И даже великие отшельники европейского гения, только что, выходя из круга личной культуры, касаются общественности, теряют свое благородство, пошлеют, мелеют, истощаются, как степные реки в песках.
Когда Гёте говорит о Французской революции, он вдруг никнет к земле, точно по какому-то злому волшебству великан сплющивается, сморщивается в карлика, из эллинского полубога становится немецким бюргером и – да простит мне тень Олимпийца – немецким филистером, «господином фон Гёте», тайным советником веймарского герцога и честным сыном честного франкфуртского лавочника. Когда Флобер утверждает: la politique est faite pour la canaille[85], – с грустью вспоминаешь салон принцессы Матильды и другие раззолоченные хлевы второй империи, где метал этот Симеон-столпник эстетики жемчуг перед свиньями, проповедуя свою новую олигархию из «ученых мандаринов». Когда Ницше делает глазки не только Бисмарку, но и русскому самодержцу, как величайшим проявлениям «воли к могуществу», Wille zur Macht, среди современной европейской немощи, то и на бледном челе «распятого Диониса» выступает то же черное пятно мещанской заразы. Всех благороднее, потому что откровеннее всех, кажется Ибсен, который свое отношение к общественности выразил двумя словами: враг народа.
А друзья народа, такие гениальные вожди демократии, как Лассаль, Энгельс, Маркс, проповедуя социализм, не только не предупреждают практически, но и теоретически не предвидят той опасности «нового Китая», «духовного мещанства», которых так боялись Герцен и Милль.
И в ответ социалистам звучит страшная песня новых троглодитов:
Vive le son, vive le son
De 1'explosion![86]
Анархизм – последняя судорога уже не общественного, а личного бунта против нестерпимого гнета государственного мещанства.
Некогда всю глубину мировой скорби, связанной с этим провалом европейской общественности, измеряли такие певцы одинокого отчаяния, как Леопарди и Байрон. Теперь уже ничей взор не измерит этой глубины: она оказалась бездонной. Молча обходят ее зрячие, слепые в нее молча падают.
Но тут невольно, с последним отчаянием или с последней надеждою, наш взор, так же как предсмертный взор «сраженного гладиатора», Герцена, обращается от одной из «двух наших родин» к другой, от Европы к России, от мрачного Запада к Востоку, еще более мрачному, хотя уже окровавленному не то зарей, не то заревом. Для Герцена этот «свет с Востока» было возрождение «крестьянской общины», для нас это – возрождение христианской общественности. И тут опять возникает в начале XX века вопрос, поставленный в середине XIX: мещанство, не побежденное Европою, победит ли Россия?
IV
«Русская интеллигенция – лучшая в мире», – объявил недавно Горький.
Я этого не скажу, не потому, чтобы я этого не желал и не думал, а просто потому, что совестно хвалить себя. Ведь и я и Горький, оба мы – русские интеллигенты. И следовательно, не нам утверждать, что русский интеллигент наилучший из всех возможных интеллигентов в наилучшем из всех возможных миров. Такой оптимизм опасен, особенно по нынешним временам в России, когда всяк кулик свое болото хвалит. Нет, уж лучше по другой пословице: кого люблю, того и бью. Оно больнее, зато здоровее. Итак, я не берусь решить, что такое русская интеллигенция, чудо ли она или чудовище, я только знаю, что это в самом деле нечто единственное в современной европейской культуре.
Мещанство захватило в Европе общественность; от него спасаются отдельные личности в благородство высшей культуры. В России – наоборот: отдельных личностей не ограждает от мещанства низкий уровень нашей культуры; зато наша общественность вся насквозь благородна.
«В нашей жизни в самом деле есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, ничего мещанского«.
Ежели прибавить: не в нашей личной, а в нашей общественной жизни, – то эти слова Герцена, сказанные полвека назад, и поныне останутся верными.
Русская общественность – вся насквозь благородна, потому что вся насквозь трагична. Существо трагедии противоположно существу идиллии. Источник всякого мещанства – идиллическое благополучие, хотя бы и дурного вкуса, «сон золотой», хотя бы и сусального китайского золота. Трагедия, подлинное железо гвоздей распинающих – источник всякого благородства, той алой крови, которая всех этой крови причащающихся делает «родом царственным». Жизнь русской интеллигенции – сплошное неблагополучие, сплошная трагедия.
Кажется, нет в мире положения более безвыходного, чем то, в котором очутилась русская интеллигенция, – положение между двумя гнетами: гнетом сверху, самодержавного строя, и гнетом снизу, темной народной стихии, не столько ненавидящей, сколько не понимающей, – но иногда непонимание хуже всякой ненависти. Между этими двумя страшными гнетами русская общественность мелется, как чистая пшеница Господня, – даст Бог, перемелется, мука будет, мука для того хлеба, которым, наконец, утолится великий голод народный: а пока все-таки участь русского интеллигента, участь зерна пшеничного – быть раздавленным, размолотым – участь трагическая. Тут уж не до мещанства, не до жиру, быть бы живу!
Вглядитесь: какое на самом деле ни на что не похожее общество, какие странные лица.
Вот молодой человек, «бедно одетый, с тонкими чертами лица», убийца старухи-процентщицы, подражатель Наполеона, недоучившийся студент, Родион Раскольников. Вот студент медицины, который потрошит своим скальпелем и скепсисом живых лягушек, мертвых философов, проповедует Stoff und Kraft[87] с такою же разбойничьей удалью, как ребята Стеньки Разина покрикивали некогда: сарынь на кичку! – нигилист Базаров. Вот опростившийся барин-философ, пашущий землю, Константин Левин. Вот стыдливый, как девушка, послушник, «краснощекий реалист», «ранний человеколюбец», Алеша Карамазов. И брат его Иван – ранний человеконенавистник, Иван – «глубокая совесть». И, наконец, самый необычайный из всех, «человек из подполья», с губами, искривленными как будто вечною судорогою злости, с глазами, полными любви новой, еще неведомой миру, «Иоанновой», с тяжелым взором эпилептика, бывший петрашевец и каторжник, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, полусвятой, Федор Михайлович Достоевский.
За ними другие, безымянные, – лица еще более строгого классического благородства, точно из мрамора изваянные, образы новых Гармодиев и Аристогитонов[88], Сен-Жюстов и Камиль Демуленов[89], гневные херувимы народных бурь. И девушки – как чистые весталки, как новые Юдифи, идущие в стан Олоферна, с молитвою в сердце и с мечом в руках.
А в самой темной глубине, среди громов и молний нашего Синая, 14 декабря – уже почти нечеловеческие облики первых пророков и праотцов русской свободы, – изваяния уже не из мрамора, а из гранита, не того ли самого, чью глыбу попирает Медный Всадник?
Это все что угодно, только не мещане. Пусть бы осмелился Флобер утверждать в их присутствии: la politique est faite pour la canaille. Он скорее бы сделался сам, чем сделал бы их чернью. Для них политика – страсть, хмель, «огонь поядающий», на котором воля, как сталь, раскаляется добела. Это ни в каких народных легендах не прославленные герои, ни в каких церковных святцах не записанные мученики – но подлинные герои, подлинные мученики.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви[90].
Когда совершится «великое дело любви», когда закончится освободительное движение, которое они начали и продолжают, только тогда Россия поймет, что эти люди сделали и чего они стоили.
Что же это за небывалое, единственное в мире общество, или сословие, или каста, или вера, или заговор? Это не каста, не вера, не заговор, это все вместе в одном, это – русская интеллигенция.
Откуда она явилась? Кто ее создал? Тот же, кто создал или, вернее, родил новую Россию, – Петр.
Я уже раз говорил и вновь повторяю и настаиваю: первый русский интеллигент – Петр. Он отпечатлел, отчеканил, как на бронзе монеты, лицо свое на крови и плоти русской интеллигенции. Единственные законные наследники, дети Петровы – все мы, русские интеллигенты. Он – в нас, мы – в нем. Кто любит Петра, тот и нас любит; кто его ненавидит, тот ненавидит и нас.