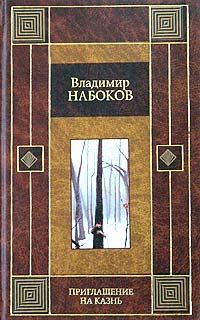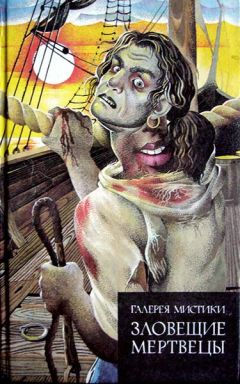Николай Добролюбов - Черты для характеристики русского простонародья
После смерти барышни еще продолжается грустная история Игрушечки, но мы уже не будем на ней останавливаться, – Игрушечка так и осталась до конца жизни игрушечкою судьбы и добрых господ своих. Хотела было она хорошо, счастливо пристроиться: полюбился ей Андрей, барский столяр, и она ему понравилась. Да пришли они просить барского разрешения на свадьбу в то время, как господа последнюю свою вотчину, и Андрея с Игрушечкою в том числе, продали. Приход их только напомнил барыне, что ей жалко расстаться с Игрушечкой, и она принялась упрашивать нового владельца, чтоб он уступил ей эту девушку. Тот согласился. Игрушечка заикнулась было, что любит Андрея, но барыня жалостливо возразила: «Ах, ах, Игрушечка! Не стыдно ли тебе, и ты могла бы меня оставить? Ах, как же можно! боже мой! Все нас покидает!» И заплакала. Повели ее под руки в карету, посадили; и Игрушечку втолкнули тоже, и помчались они… Андрей только издали смотрел на это, бледный как смерть. Новый барин его был очень крут, не как прежние господа. Через два месяца Игрушечка узнала, что в селе их «несчастье случилось… Шесть человек на поселенье пошло… Андрей шестым»… (стр. 171). Так исчезла ее последняя надежда на счастье, на возможность быть наконец чем-то побольше «игрушечки».
В «Игрушечке» видим мы лицо совершенно пассивное: постоянно тоскливое, грустное расположение – вот ее единственный протест [на свою несчастную судьбу.] И не мудрено: вспомним, что она оторвана от своих, выхвачена насильно из простой народной жизни и брошена [в этот тихий омут,] где ее держат для забавы, [насильно заставляют веселиться и] беспрестанно запугивают и придавливают. Простоте и свежести первых лет жизни, первых впечатлений детства надо приписать еще и то, что она в этой обстановке не сделалась [подлой и] льстивой [холопкой, доносчицей и] смутьянкой [, подобной тем «благородным» приживалкам, тип которых находим мы в Василисе Перегриновне в «Воспитаннице» Островского].
Но в самой покорности несчастных, вынужденных покориться поневоле, мы видим часто гораздо более решимости и энергии, нежели в суетливых исканиях и метаниях из стороны в сторону, в которых так часто изживают у нас целый век даже очень хорошие люди. Для дополнения параллели, которую мы проводили выше, мы укажем теперь на коротенький рассказ Марка Вовчка «Саша».
История простая: Саша привезена из деревни в горничные к барыне; барынин племянник соблазнил ее да потом так привязался к ней, что хотел на ней жениться. Как только он о женитьбе заикнулся, Саше сейчас косы обрезали и заперли ее в темную… Он ходил, плакал, клянчил, бился как рыба об лед, наконец выпросил Саше свободу, поклявшись, что не будет пытаться жениться на ней. И пошло все своим чередом, только Саше так горько было, что все опостылело; и она вымолила у господ позволения в монастырь идти, где и умерла вскоре. А он – «и до сей поры ходит на ее могилу и все молится там». Жениться не захотел; всегда ходит печальный такой: «Нет, – говорит, – никто уж меня не повеселит так, как моя Саша покойница! Бог судья дяденьке и тетеньке!..»
Из остова рассказа уже видно отчасти, какая разница между двумя этими людьми. Но вот несколько частных черт, еще яснее рисующих оба характера.
Саша отдалась молодому человеку вполне, беззаветно; она исчезла в нем, заключила все чувства и стремления в любви к нему. Когда узнали об их любви и стали над ней издеваться, она говорила: «Что ж, люди смеются, пускай себе! Я люблю его, я его! Что ж мне о себе думать-то? Думай он. Хорошо ему – весело, что смеются – смейтесь; а обидно ему покажется – сам он знает, что сделать. А я послушаюсь его слова, его приказу». Это рассуждение как нельзя более сообразно с положением Саши и показывает в ней очень умный взгляд на свои отношения к молодому барину. Полюбивши ее и воспользовавшись ее расположением, он делался естественно ее заступником, покровителем, связывался с нею единством интересов, и он первый должен был бы понимать это, если бы был человек, здраво и честно развитый. Саша считала его таким и понимала за него то, до чего он еще не сумел возвыситься с своим образованием. Он был человек добрый и честный в душе, хотя и легкомысленный; он очень полюбил Сашу и сам признался ей: «Я ведь тебя обмануть собирался, Саша, обмануть хотел и потом бросить, – ты прости меня! Не бросил – сил не было, потому что полюбил крепко». И он, точно, не бросил ее: до конца жизни любил и по смерти любил. Но его воспитание и положение были таковы, что не давали ему никакой возможности серьезно вникнуть в свои обязанности и поступить так, как предписывало и требование честности, и даже его собственное сердце. Саша покорна своей судьбе; что же ей в самом деле предпринять можно в ее положении? Она тут ни при чем; у ней нет ни силы, ни воли; он должен все устроить, и будь бы у него сердце и смысл Саши – он бы не призадумался над ничтожными препятствиями, представлявшимися ему, и не стал бы потом плакаться на дяденьку и тетеньку. Но в том-то и дело, что такой смысл, такой характер не даются людям его положения. Саша порабощена внешним образом, и снимите с нее этот гнет, – она способна подняться до каких угодно нравственных и умственных высот. А любимый ею юноша лишен внутренне всякой самостоятельности, всякой опоры в себе самом и порабощен всем существом своим забавным ничтожностям, которые так ценятся в свете. Он жалуется, что отец с детства забил и запугал его; но отец отцом, а главное-то все-таки в том, что ему не хочется потерять некоторых преимуществ своего положения, хотя и ничтожных, но уже привычных ему и льстящих его тщеславию. Он настолько образован, что понимает отчасти их ничтожность, но понимает лишь теоретически, холодным соображением, без участия сердца. Оттого-то он и для борьбы не находит в себе сил, да и покориться-то не может с достоинством и твердостью. Вот, например, разговор его с Сашей: «Скажи, Саша, скажи, что делать? – спрашивает он ее в тоске. – Мучусь я, и голова кругом идет… Ох, Саша, если б можно мне было жениться на тебе». – «Женись», – говорит Саша очень просто, понимая, что тут никакой невозможности нет. «А люди-то что скажут? – возражает он. – Подумай-ка, Саша, как люди-то напустятся, – дядя, жена его злая еще пуще, – все, все родные! Заклюют они нас, Саша! Умер бы я теперь с радостью». И заплакал. А Саша опять говорит ему простой ответ: «Ну, умрем, коли хочешь». Она на все готова; по ней, если с ним нельзя жить, то и умереть нипочем… Но он поплакал, поплакал и решил: «Нет, – говорит, – грех умереть от своей руки [(благочестие тут напало!)]; лучше я женюсь на тебе, Саша, – будь что будет». И храбро прибавляет: «Что мне они? чего мне их бояться?..» И точно, ему от них даже наследства получать не приходится, а между тем он выговаривает свое решение, точно геройский подвиг совершает, и придает ему несравненно больше значения, чем Саша своей готовности умереть, высказанной ею совершенно искренне и и с прямою решимостью исполнить ее на деле. И чем же разрешается его геройство? тем, что он просит у тетеньки с дяденькой позволения жениться на Саше, с приговором, что ведь «все мы равны перед богом, тетенька», а потом слезливо смотрит, как барыня тут же, при нем, его возлюбленной косы обрезывает… Тут и поняла его Саша, и когда он потом пришел к ней в ее чуланчик, она «не обрадовалась и не опечалилась при виде его, а так будто скучнее ей стало». В другой раз собрался он как-то к тетеньке с требованием, и так бодро пошел; подруга Саши обрадовалась и испугалась, а Саша говорит ей: «Ах, милая, сядь да утишься: не из тучи гром… Пошел он к господам, – и храбр он, пока идет; а лицом к лицу станет, руки у него опустятся – оробеет. Я знаю его; поверь моему слову». И точно, так и вышло: храбрость героя нашего кончилась тем, что он обещал тетке оставить мысль о женитьбе на Саше… Зато Саше свободу дали; подруга ее опять стала выражать надежду, что «может после…». Но Саша уже совершенно осмотрелась в своем положении и поняла его во всех частях. Вот что она отвечает: «Попусту не надейся; он пуглив больно. Не всякую ведь любовь в люди показать хочется, милая! Как не цветно наряжена, не красно убрана, то дома, в уголке, под лавку хоронят: «Сиди, любовь, утешай меня, а в люди не выходи; осудят люди и хозяина пристыдят». И на возражение подруги, что «он ведь любит ее», она прибавляет: «Ах, себя-то самого еще больше любит, скажу тебе». В другой раз, когда подруга советует ей: «Да прямо скажи ему, научи его», – Саша отвечает: «На целый век не научишь, голубушка. Эта грамотка не дается ученьем». И, таким образом, понявши, что ей нечего ждать и надеяться, Саша, точно, недолго ждала: пошла в монастырь, да и там не много пожила: исчезло то, что ее привязывало к жизни, исчезли и ее жизненные силы… А он ничего – живет, и все к ней на могилку ходит… [И зачем шляется?..]
Подобное же явление, но несколько с другой развязкой с мужской стороны, раскрывается перед нами в рассказе «Надёжа». Вникнувши в этот рассказ, мы еще яснее понимаем ту разницу, которая отличает чувства и поступки простого человека от чувств и поступков людей, [развращенных] неестественным своим воспитанием и положением. Общее расслабление, болезненность, неспособность к сосредоточенной и глубокой страсти характеризует если не всех, то большинство наших «цивилизованных» собратий. Оттого-то они и мечутся беспрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего им нужно и чего им жалко. Желают они так, что жить без того не могут, и все-таки ничего не делают для осуществления своих желаний; страдают они так, что умереть лучше, – а живут себе, ничего, только меланхолический вид принимают. Не то у простого человека: он или неглижирует, внимания не обращает на предмет и уже не толкует о своих желаниях; или уж, если привяжется, если решится, то привяжется и решится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствия не страшат его, когда их нужно одолеть для достижения страстно-желанного и глубоко-задуманного. Если же нельзя достигнуть, простой человек не останется сложа руки: по малой мере, он изменит все свое положение, весь образ своей жизни, убежит, в солдаты наймется, в монастырь пойдет; часто он просто, естественным образом не переживает неудачи в достижении цели, которая уже проникла все существо его и сделалась ему необходима для жизни; если же физическое сложение его слишком крепко и может вынести больше, нежели сколько нужно для крайнего раздражения нервов и фантазии, – он не церемонится покончить с собою насильственным образом. И это тоже служит для нас свидетельством, как для простого, здорового человека, раз почувствовавшего свою личность [и ее права], несносна жизнь бесплодная, бесполезная, автоматическая, [без принципов и стремлений], без смысла и правды, жизнь, подобная той, какую проводят, например, игрушечкины господа и многие другие в том же роде.