Лев Гинзбург - Разбилось лишь сердце мое... Роман-эссе
Что ж… Бывают общественные, литературные ситуации, когда одни классики отходят на задний план, уступают место другим, затем возвращаются. Наследие оттого и живое, что не остается неподвижным.
В Геттингене в витринах книжных магазинов я видел уцененные собрания Гёте. Зато возрос читательский спрос на Клейста, на Жан-Поля. Писатели пользуются иногда его утешительной мыслью: «Покуда человек пишет книгу, он не может быть несчастлив»… Из авторов XX века популярнее других стал Герман Гессе. Я бывал во многих профессорских и литературных домах с большими библиотеками, случалось, что разговор заходил о Шиллере, надо было найти то или иное стихотворение. Шиллера, как правило, не оказывалось, долго обзванивали знакомых, пока кто-либо не находил у себя ветхий томик, оставшийся еще от родителей, дедов. Кто, однако, из нынешних западногерманских интеллигентов не завел у себя «Жизнь Квинта Фикслейна» или «Адвоката Зибенкеза» — острые сатиры Жан-Поля?
Классиков можно убить чинопочитанием, парадными чествованиями, тупой школьной зубрежкой, но бывает и так, что усталое общество уже не в состоянии хранить классику, духовные ценности выпадают из его обессилевших рук.
Бессмертие классиков — понятие чрезвычайно сложное. Можно назвать самые высокие имена и не сразу ответить, живы ли они или покоятся в сердцах знатоков. А может быть, они живут в строках новых поэтов, перешли в них?.. Пушкинский «Памятник» отвечает на это со всей определенностью: «И славен буду я, доколь в подлунном миро жив будет хоть один пиит». Не — «хоть один человек», не «хоть один читатель», а пиит!.. Хоть одно!.. Речь идет о далеком поэтическом потомке, в чьих жилах его, Пушкина, кровь. То же происходит, конечно, и с Шекспиром, и с Гёте, и с Шиллером — с любым из великих. У каждого — многочисленное потомство, на всех материках, во всех странах света…
Из чего создаются стихи?
Профессор Альбрехт Шене (пятьдесят два года, учился в США, Канаде, ФРГ, выдающийся знаток немецкого барокко) построил свою лекцию оригинально. Поэтов он не цитировал, включал кинопроекционный аппарат, на экране появлялись, допустим, Пауль Целан, или Готфрид Бенн, или Гюнтер Айх, читали свои стихи. Экран выключался, Шене комментировал, затем экран вспыхивал вновь.
Возник диктор телевидения, объявил о начале войны во Вьетнаме. После этого экран показал поэта Гергарда Рюма. Он читал сонет, составленный из тех же слов, что и сообщение диктора, по ритмически организованных так, что слова падали на слушателя-читателя, как бомбы на крыши Вьетнама. Это был звуковой эффект, но содержал ли этот эффект поэзию? Может быть, за поэзию принимают любую эмоционально окрашенную речь или же, напротив, существует тенденция к возведению в поэзию газетной и даже канцелярской речи?.. На стихи «идут» рекламные проспекты, расписания поездов, газетные информации из них выдергивают слова, комбинируют, составляют коллажи… Один из поэтов ритмизовал газетную заметку, помню первую фразу, начало сонета:
Астро
навт
Арм
стронг
в мо
ре
ти
шины…
Каждый слог сопровождается ударом метронома.
В прежние времена пошлость в поэзии называли рифмованной: она бряцала рифмами, рядилась в пышные метафоры, у нее был возвышенный слог. Ныне пошлость опростилась, приобрела аскетический вид, она «рационалистка» и изъясняется преимущественно верлибром.
Из словесной мешанины выплывает иногда крохотная мыслишка. Это входит в «правила игры».
В конце 50-х годов Ганс Магнус Энценсбергер писал о торжествующей накипи:
Пена цветет, ширится,
захлестнула всю землю.
Накипь забрызгала мир,
и ее не выжжет огонь,
не вырубит меч…
…И что делать с теми,
кто говорит «Гёльдерлин»,
а втайне думает: «Гитлер»?..
Энценсбергера-поэта вызвало к жизни отвращение к накипи, к наглому самодовольству «экономического чуда», к безнаказанности зла. Он надеялся выразить себя в протесте, перепробовал много «моделей», заблуждался, но не отчаялся. Его выручили трезвый рассудок, скепсис, ирония. В его книге «Мавзолей» — за скромными инициалами А. Г., Ф. Ш., Ч. Д., А. М. - встают фигуры тех, кто украсил собой историю человечества, например Александр Гумбольдт, Фредерик Шопен, Чарлз Дарвин, русский математик Андрей Андреевич Марков, многие другие… И здесь же — описание жизней, прожитых зря, во вред остальным… Свою поэму «Гибель „Титаника“» (1977) он горестно назвал комедия. Вместе с громадой «Титаника» тонут иллюзии 60-х годов, тонет любовь. Гибнет надежда. У поэта хватило мужества взглянуть на это хотя бы с иронией.
Энценсбергер, как и большинство современных поэтов Запада, пишет безрифменным стихом, но рифма ему, пожалуй, и не нужна. Мысль, уткнувшись в рифму, стала бы куцей; видимо, ей легче переходить из одной нерифмованной строки в другую…
На геттингенском семинаре мне по-новому открылся Пауль Целан, поэт, который числился гражданином Австрии, издавался в ФРГ, а жил и умер в Париже. Я переводил его «Фугу смерти» — скорбное поминание тех, кто замучен в концлагерях, в гетто. Целан в юности познал нацистские преследования, все его родные погибли, образ смерти в эсэсовской форме шел за ним по пятам. Он покончил с собой в 1971 году, в возрасте пятидесяти лет… Теперь он вдруг ожил передо мной на экране — человек с грустным, спокойным лицом. Стихи он читал по книге, отчетливо, медленно произнося каждое слово. Чтобы понять Целана, нужно проникнуть в грунтовые, подземные воды слов. Смысл у него не лежит на поверхности, но его «темная» поэзия противостоит словесной дешевке, истрепанному языку повседневности. У него есть страшные метафоры: мука, перемолотая мельницами смерти, волосы, которые никогда не станут седыми…
Поэт Фолькер фон Терне составил стихотворение из лексических шаблонов третьего рейха… Вначале эти стихи могли показаться скучными, даже дешевыми, но, вслушавшись, я вдруг подумал о пагубном всевластии шаблонов. За каждым из этих словесных клише стояли трагедии и пороки: беспомощность обманутых, обворованных, бесстыдство политиканов, изворотливость манипуляторов, цинизм сочинителей грязных статей. Здесь все слова были преступники: совратители, обманщики, шулера, воры.
В шаблонах торжествовала власть тьмы — гигантское вторжение невежества во все сферы жизни, вытеснение духовного начала, замещение всегда тонкого по своей природе искусства грубым антиискусством, тупой силой, бездарностью, воинствующей скукой.
В перерыве говорили с профессором Шене о барочной поэзии: он считает ее наиболее близкой сегодняшнему состоянию, восприятию. Коллизии XVII века это не конфликты между чувством и долгом или между богатством и бедностью, а столкновения исключительные, роковые: между жизнью и смертью, временем и вечностью, войною и миром. Одна из величайших трагедий той эпохи отсутствие положительного идеала, вернее — какого-либо реального душевного пристанища, кроме веры в бога. Но и вера в бога как в высшую спасительную силу, которая с таким простодушием выражена в стихах Пауля Гергардта:
Но если кажется порой,
Что не пришла подмога,
Свой тяжкий грех молитвой скрой
И уповай на бога,
подвергается сомнению у Ангелуса Силезиуса:
Бог жив, пока я жив, в себе его храня,
Я без него ничто. Но что он без меня?..
Впрочем, одно-единственное пристанище остается всегда: совесть.
Мы вспоминали Фридриха фон Шпее. Он был иезуит, в его обязанности входило сопровождать на казнь осужденных к сожжению «ведьм». Закончив обряд, он возвращался домой, запершись в кабинете, писал свои стихи бисерным почерком, нумеруя строфы. Сторонники Реформации относились к нему с особой ненавистью: святоша, пособник палачей!.. На его жизнь покушались, он был тяжело ранен, с трудом выздоравливал. В 1631 году по всей Германии разошлось анонимное латинское сочинение «Cautio criminalis». Автор неопровержимо доказывал, что среди осужденных женщин нет ни одной виновной, признания вырваны пыткой. Трактат возымел свое действие, после него сожжение «ведьм», по существу, прекратилось. Автором этого сочинения был Фридрих фон Шпее поэт. Но есть нечто такое, что выше поэзии, — совесть.
3
В те дни, когда в Геттингене работал наш семинар, Западную Германию трясли политические страсти. Не стихала, а, казалось, наоборот, усиливалась «гитлеровская волна», неожиданный для посторонних массовый, болезненный интерес к Гитлеру. То и дело выбрасывало на рынок обломки, сор «третьей империи»: дневники Геббельса, мемуары Шпейделя, мемуары Августа Кубицека «Адольф Гитлер — друг моей юности», мемуары Германа Гислера «Другой Гитлер», мемуары X. Ф. Гюнтера «Мои впечатления об Адольфе Гитлере», мемуары Гергарда Бука «Штаб-квартира фюрера», «Три завещания Адольфа Гитлера» — отдельной брошюрой… На экранах шел (шестую неделю! восьмую неделю!) фильм Иоахима Феста «Гитлер. История карьеры». Продавались предметы нацистского обихода. Не было газеты, журнала, иллюстрированного еженедельника, где в той или иной связи не появлялись бы фотографии Гитлера, Геринга, Бормана, Гиммлера, Геббельса, Риббентропа. При желании можно было вообразить, что время круто повернуло вспять, к тридцать третьему году; нацисты в центре общественного внимания: может быть, они уже идут к власти?.. Устроители семинара чувствовали себя неловко, приходилось отвечать на недоуменные вопросы.

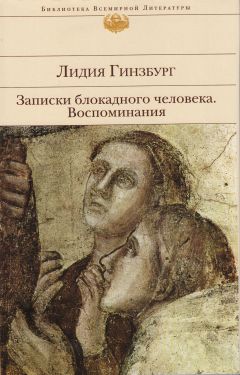
![Лидия Гинзбург - Агентство Пинкертона [Сборник]](/uploads/posts/books/13908/13908.jpg)