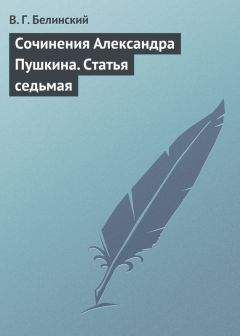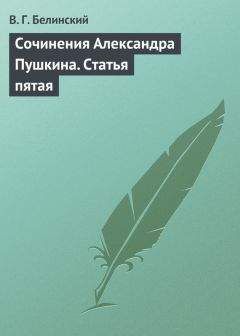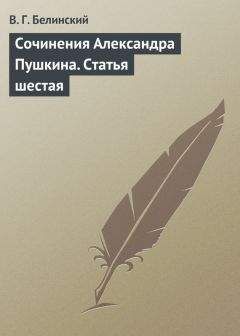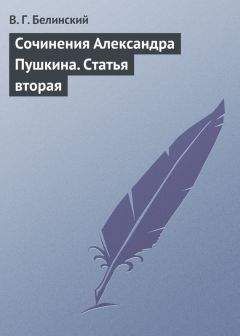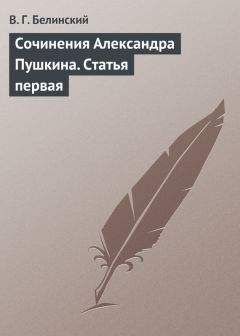Корней Чуковский - Две души М.Горького
Но, как художник, Горький говорит иное. Он, поэт моря и степи, поэт большой дороги, всю жизнь изображал город, как гроб. Очутившись, например, в 1906 году в Нью-Йорке, он проклял его небоскребы, его трамваи, мосты, его биржу, его рынки и лавки — и гул железа, и вой электричества, и шум работ — то есть именно все то, что делает город — городом. Нью-Йорк ненавистен ему не потому, что это Нью-Йорк, а потому, что это наивысшее воплощение города. Город казался ему «жадным и грязным желудком обжоры, который впал от жадности в идиотизм и с диким ревом скота пожирает мозги и нервы»[20].
Горькому казалось тогда, что все Линкольны и Вашингтоны должны вырваться из этого города, как из тюрьмы, — «куда-нибудь вон, прочь из этого города, в поле, где блестит луна, есть воздух и тихий покой».
Горький всегда прославлял свободолюбивых людей, которые покинули «неволю душных городов» — и вышли в поле, «где блестит луна». Как истый романтик, он всегда сочетал идею безграничной Свободы с идеей непорабощенной Природы. Даже электрическое освещение в городе казалось ему оскорблением солнца и звезд: этот «огонь, заключенный в прозрачные темницы (!) из стекла», был в его глазах воплощением рабства.
И никакого энтузиазма не вызывала в Горьком творческая работа строителей города — ни «зловещий крик ржавого металла», ни «угрюмый вой порабощенных молний».
«Я впервые вижу такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так порабощены жизнью», — писал он о Городе Желтого Дьявола. А между тем Город Желтого Дьявола есть типичнейший капиталистический город с наиболее выраженными городскими чертами. Очутившись среди небоскребов, Горький по-деревенски, по-русски затосковал о поле, о луне, о тихом воздухе. Это было в нем подлинное. Не только Нью-Йорк, но всякий город органически враждебен ему. С какой радостью уходил он из Нижнего в лес, и никогда никакому городу не посвящал он таких ласковых и поэтических слов, какие посвятил описанию леса.
«Темною ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели, как большие птицы, березы, точно девушки»... «Мне кажется, что это очень хорошо — навсегда уйти в лес... В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства»... «Скрипят клесты, звенят синицы, смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поет странная птица-щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней, подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. Щелкает белка, в лапах сосен мелькает ее пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть все больше, идти все дальше»...
Мудрено ли, что, вернувшись в город, он чувствует себя несчастным и потерянным! Дом, где ему пришлось поселиться, показался ему могилой: «после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждает у меня тоску».
Теперь же, подчиняясь новым своим публицистическим лозунгам, он заставляет себя во что бы то ни стало любить город и восхищаться его великой энергией. Но эта любовь выражается только в риторике. Переберите все книги Горького, вы не найдете в них ни единого образа, подкрепляющего эту любовь.
К деревне и к крестьянам он враждебен еще со времен «Челкаша». Но отнимите от его творчества то, что дано ему русской деревней, и у него почти ничего не останется. Как мы указывали на предыдущих страницах, ни у одного из современных писателей язык их писаний не связан так прочно с деревней, как именно у Максима Горького. Стоит только его героям заговорить «правильным», культурным, городским языком, язык этот становится мертв. Городской язык не дается ни Горькому, ни его персонажам. Он сам это чувствует — и всегда заставляет своих персонажей пользоваться тем или другим диалектом, вся сила которого в отклонениях от культурной, созданной городом, речи. Постоянно прибегает он к чисто народным суффиксам и окончаниям слов, необычным в речах горожанина. Оттого так трудно переводить его книги на иностранный язык, в них столько волжского, деревенского, даже церковно-славянского: недаром Горький учился читать по Псалтирю. Запрети его героям пользоваться такими словами, как попище, раишко, дурачишко, уморушка, схохнуть, кочевряжиться, бабахнуть, инде, жалеючи, эвона, невдале, спервоначалу, тутошный, растаковский, свычный, человече, друже, отче, делов, намерениев, — и его произведения сильно поблекнут.
Я не говорю, что его язык чисто крестьянский; нет, почти всегда это помесь крестьянского языка и мещанского. Это язык вчерашнего мужика, который завтра станет горожанином. Но сегодня он не горожанин, не мужик, а середина. Почти все персонажи Горького — наследники богатой крестьянской речи, еще не успевшие истратить наследства. В их синтаксисе и словаре есть уже немало городского, но все же главная основа — деревня.
Сам Горький во всем своем творчестве — между деревней и городом. От деревни отстал, к городу не пристал, — ни к какому месту неприкаянный, не мещанин, не мужик. Оттого-то он так любит бродяг и шатунов, оторванных от определенного быта, чуждых и деревне и городу. В этих оторванных, не нашедших себе места на земле Горький до старости лет чувствует родное. Он и сам такой, как они. Он не барин, не интеллигент, не рабочий, не буржуй, не крестьянин — он не имеет пристанища ни в одной из сложившихся общественных групп. Он человек без адреса. Он на грани двух миров, из которых один уже начал разваливаться, а другой еще не успел сложиться. Оттого-то у него две души, оттого-то между его инстинктами и его сознанием такой вопиющий разлад. Все его инстинкты, бессознательные тяготения, симпатии, вкусы принадлежат одному миру, все его сознание — другому. Оттого-то Горький-публицист так не похож на Горького-художника. В России нет такой социальной среды, в которую он врос бы корнями. Никакая среда не может назвать его своим. Всех своих героев, оторванных от корня, от почвы, он создает по образу и подобию своему. Только такие ему и удаются, — неприкаянные. Когда же он пробует изображать ту или другую среду, которая уже успела сложиться, создала прочный быт, его талант изменяет ему. Когда он попробовал в повести «Лето» изобразить мужиков, прилепленных к земле, или в повести «Мать» рабочих, прилепленных к фабрике, результаты оказались плачевные: публицистика осталась публицистикой и не претворилась в поэзию. Сам он ни к чему не прилеплен. Оттолкнулся от Азии, но европейцем не сделался. Проклял деревню, но в городе не нашел себе места. Прильнул к интеллигенции, но внутренне остался ей чужд. Всю жизнь он на перекрестке дорог.
VI
Лучшей иллюстрацией этого являются его «Воспоминания о Толстом». Конечно, как публицист, как проповедник активности, как ревнитель западноевропейской культуры, как обличитель русской азиатчины, он всячески противится обаянию Толстого и говорит о нем жестокие слова. Но как поэт, как один из окуровцев, как внук Акулины Ивановны, он любит его нежно и набожно и по-детски льнет к нему всей своей очень русской, очень азиатской душой. Отсюда та очаровательная двойственность, которой проникнуты его записки: и осуждая Толстого, он восхищается им, и отталкивая — тянется к нему. Чует в нем врага и — полубога.
Конечно, он осуждает Толстого, как уже осуждал его неоднократно и прежде; но теперь (впервые!) к этому осуждению примешалось столько благодарных, сыновних, поэтических чувств, что все хулы стушевались и стерлись, и похоже, будто он высказывает их лишь по долгу службы, по какой-то официальной обязанности, а на деле благоговеет (до слез) перед каждым самым незначительным словом Толстого, даже перед его капризами и слабостями.
Конечно, и в этой статье, как в прочих своих статьях о Толстом, Горький не может не поставить Толстому в вину его «монгольского фатализма», его «азиатской апологии неделанья». Конечно, он повторяет и здесь:
— Толстой «воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», непротивления злу, проповедь пассивизма — это все нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой, неуклонным, действенным сопротивлением злу жизни... Он... желает лечь высокой горой на пути нашем к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека напряжения всех духовных сил», и проч., и проч., и проч.
Но все эти слова потонули в той нерассуждающей, стихийной любви, которая нечаянно, как будто против воли писателя, прорывается в каждой строке. Он уверяет себя, что Толстой ему чужд, а пишет о нем, как о самом родном, и чувствует себя без него сиротой.
И здесь, как везде, его лирика в разладе с его философией — и здесь, как везде, именно этот разлад и придает очарование его творчеству...
VII