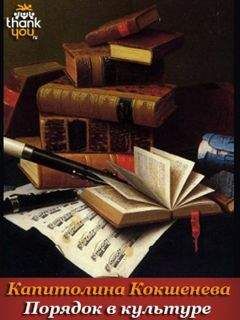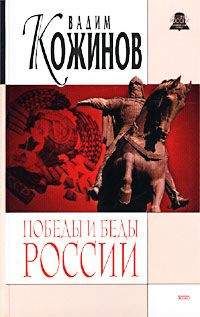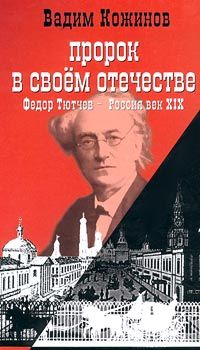Капитолина Кокшенева - Русская критика
Внутренняя красочность слова, полнота его звучания поражают нас своей прежней неслыханностью и, одновременно, узнаваемостью. Все происходит торжественно и необыденно, будто с каждого слова снят налет от его бесчисленных называний — писательница создает его вновь, передумывая и переживая в себе его подлинность. Слово у Галактионовой — честное. Между тем чувственность, а тем более женская, совершенно не свойственна ей. Она из тех редких прозаиков, которым доступно высшая срощенность слова и мысли. И тогда блестящие и стильные формальные новшества совершенно не навязывают своей новизны, но выглядят и читаются как новая органика традиции.
Не будем обольщаться: не побегут нынешние вещатели пошлости и грязного вздора рассказывать читателю о таком событии как появление в нашем литературном пространстве блестящего романа Веры Галактионовой. Все уникальное и значительное сегодня проходит мимо «унесенного ветром» реформ человека. Но такая литература и не навязывается читателю. Если он ее может и хочет понять, — он должен сам прийти к ней. Прийти, отбросив суету «неотложных дел» — прийти, умывшись и надев пусть старый, советского кроя, но чистый и добротный костюм. От прозы Веры Галактионовой в современном литературном доме стало надежнее и умнее.
Никогда в русской культуре не было жреческого отношения к форме, — «телу произведения». Нынешние экспериментаторы это еще и еще раз доказали хотя бы потому, что их формальные эксперименты можно беспрепятственно и бесконечно изучать теоретически. Тут всякое разъятие на части, отделение от «скелета» тех или иных «костей» совершенно ничему не вредит: целостность не нарушается просто потому, что ее нет. Отсюда и само «изучение» протекает необязательно, инвариантно и приятно во всех отношениях. Сочинение может подлежать изучению в любом положении: хоть справа, хоть слева, а то и вверх ногами. Все зависит от оригинальности взгляда критика и исследователя больше, чем от самого текста.
Читая Веру Галактионову трудно не испытывать какой-то озорной радости: наши господа постмодернисты мучаются уже лет двадцать, чтобы достичь технологических высот, описанных в западных модернистских теориях литературы, а тут на одном выдохе, одним мощным волевым жестом дана новая романная форма! И заметим — без всяких судорог новаторства. Такое блестящее, богатое ритмически, такое многоголосое произведение может быть только рождено, где потаенными швами-скрепами становятся бескорыстная трата личного творческого труда и этически-чистого национального дара. Трата «за други своя» и землю свою… Ведь не спасавший России, и сам не спасется.
2005 г.
О культурном единстве нации
Мой главный культурологический пафос, основания для которого я нахожу не только в культуре, но и в реальности, уже многие годы состоит в том, что литература и культура — это охранительные оболочки человека. А сам человек, востребованный современностью только как исправный налогоплательщик, усердный избиратель и жадный потребитель именно в литературе может сохранить свой полный образ как человека исторического, культурно и религиозно связанного пуповиной с традицией признания безусловных требований духовного мира человека. Да, я полагаю, что современный человек нуждается в защите. И сделать это может, прежде всего, культура и литература, в частности. Но что, кого, как и зачем она защищает?
Казалось бы, современному человеку предлагается многое, что стоит на его защите: у нас есть Конституция, есть всяческие международное конвенции, есть «гуманистический манифест 2000». Но достаточно ли этого? Человек, который полагается только на учреждения, которые защитят его права — это ли человек русской культуры? Ведь совершенно очевидно, что этому человеку заведомо внушается неверие в себя именно как в человека. Помимо прав у человека есть разум, чувства, воля. И кто сказал, и кто докажет, что они менее значимы для человека? А потому скажу сразу — защищать только права — защищать неполного человека, и даже искаженного человека. И если одни будут защищать права, то должны быть и другие — те, кому человек может сказать: «Я хочу, чтобы были и те, кто защитит мою веру, мой интеллектуальный и духовный мир». И такие есть. Именно о них и шла выше речь в этой книге.
Я пыталась показать в своей книге, что литература, спектакли представляющие человека как существо духовное сегодня существуют по-прежнему. Они не утратили ни своих высоких художественных качеств, ни своей интеллектуальной силы. И литературу эту я называю почвенной. Да, было блистательное, полное художественных шедевров, «деревенское направление», с которым навсегда повенчаны Яшин, Белов, Распутин, Абрамов, Астафьев, Можаев, Галкин, и многие другие. Но сегодня, мне кажется, более верно говорить именно о почве: более верно потому, что почвенная литература способна вместить в себя и верных традиции «деревенщиков», и тех, для кого работа в традиции, современный консерватизм, динамическая, развивающаяся традиционность, любовь к земле как месту сакральному для народа остается существенным наполнением творчества. Только почвенная литература способна дать культурное единство нации. Именно поэтому для меня в равной степени Олег Павлов, Леонид Бородин, Вера Галактионова, Юрий Самарин, Василий Дворцов, Лидия Сычева, Александр Сегень, Виктор Николаев, Борис Агеев, Петр Краснов, Александр Семенов, Сергей Щербаков — все почвенники. Но есть еще внутренний образ, связанный с почвенничеством. Это — понимание, что жив идеал — идеал прекрасного человека — человека христианской культурной традиции. Другого у нас не было и не будет. Но литература — не богословие, центром полагающее Бога, то есть Истинное, Совершенное, Благодатное. В центре подлинной литературы стоит человек, идеальность которого ограничена его именно земной и несовершенной природой. Потому и строился годами образ положительно-прекрасного человека в русской литературе — строился десятилетиями и эпохами. Тут нужны «соборные» усилия писателей. Князь Мышкин неизбежно будет длиться образами беловского Ивана Африкановича, распутинской Марии, Теркиным Твардовского, астафьевскими героями (Коля Рындин). Но сегодня в литературе именно человек такой традиции решительно отрицается или переформатируются до неузнаваемости. Нынешнего человека учат верить только в учреждения. Разве «Кысь» Т. Толстой не вся сплошь подчинена этой идее, выполнена сплошь в эстетике показа «учреждения» и человека, сплошь зависимого от него?
Петр Евгеньевич Астафьев (русский философ рубежа XIX–XX вв.) писал: «Духовная личность уже не верит ни в свой собственный ум, ни в чувство и волю, сама мельчает, глупеет — теряет энергию и творческую силу; учреждение, общество, устав должны отныне пособить горю, заменить везде живой ум, живое чувство и энергичную волю. Земетен ли упадок нравственных идеалов? Ничего нет проще, как пособить горю: стоит только написать устав “общества нравственного усовершенствования” (в Америке их десятки), выбрать президента, секретаря и т. п. — и дело готово!.. Падает наука, иссякло творчество в искусстве? Создать как можно больше ученых обществ из ничтожных в отдельности книжников и художников — из бездарных техников искусства, и — делу конец, наука и искусства спасены! Общество ли беднеет, не в силах справиться со своей экономической задачей? Дать ему банки, устроить компании на акциях — и оно разбогатеет, если не вовсе разорится! Упадок, измельчание личного духа, личной энергии и жизненности и неутомимое созидание, на замену им, обществ и учреждений — такова общая черта, несомненно сказывающаяся во всех сферах жизни современности» (Из «Итогов века». С 134–135).
Что видим мы сегодня.? Мы видим страсть человека к накоплению внешних благ, мы видим жажду пользоваться жизнью с комфортом и удовольствием, — но мы видим как в этом внешнем богатстве мира товаров и услуг все больше «душа выбывает», видим, что нынешнему человеку «и жить скучно, и умирать страшно». Нет, никакие общественные и политические, наши или международные учреждения не решат этих внутренних проблем человека. Никакие альтернативные истории, фентези, политические детективы в литературе, никакие блокбастеры в кино и «дети Розенталя» в опере в качестве экспериментального «чуда» не решат этих внутренних проблем человека.
Чем больше удовольствий от чтения любовных романов (а в массовая литература всегда «на вложенный грош обещает бездну удовольствия» — Н.Калягин), чем выше степень художественной доступности любой литературы — тем больше утрачиваются всеми нами свежесть чувств и искренняя жажда жизни. Чем стремительнее празднуем мы успехи компьютеризации, технологического прогресса, — тем более стандартизируется, шлифуется ум человека. Казалось бы, все внешнее, что создавалось для человека этого самого человека и придавило. Придавило так, что он и веру в себя потерял, отказался от требований разума, растратил энергию мысли и чувства.