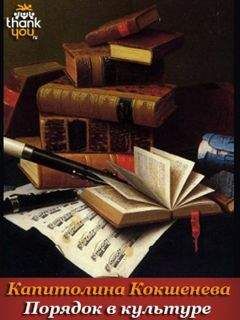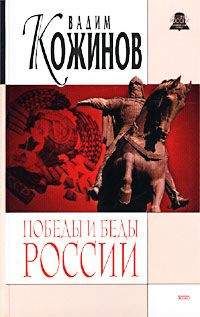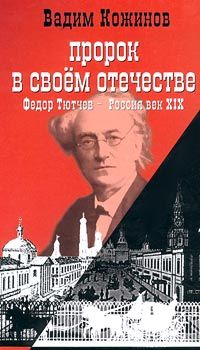Капитолина Кокшенева - Русская критика
Традиционная психология в драматическом искусстве всегда держалась на «аристотелевской логике», то есть на том, что поступок героя не может мотивироваться одновременно причинами противоположными. Модернист Фрейд сделал прямо противоположное утверждение — один и тот же поступок одинаково питается как любовью, так и ненавистью. Он разрушил причинную связь в психологии. Он упростил задачу, он вывел на просторы культуры произвол и произвольность, а, в сущности, уравнял в метафизических правах любовь и ненависть. Именно тут расположен источник имморализма (и аморализма) «новой» психологии.
В психологическом и реалистическом театре важна концентрация на «проблеме человека» (а не психике, уме, воле, эмоции человека в своей разделенности). Психологический образ сценического персонажа — это одновременное вбирание в себя общего смыслового и эмоционального ритма спектакля при несомненной самостоятельности собственной актерской «партии». В мхатовском горьковском «На дне» режиссер-постановщик Валерий Белякович так и выстраивает ход спектакля, каждому актеру давая кульминационное в роли солирование: героям очень важно вынести во вне — на люди — свою судьбу. И, вместе с тем, поставив спектакль вне бытовой обжитости сцены, «вынув» героев из тесноты ночлежки и «бросив» их в космос сцены (только четыре конструкции трехъярусных «нар» указывают на «дно жизни»), — вместе с тем, человек в спектакле все же не потерян.
Смею предположить, что режиссер стремился к диалогу с классиком. Дерзну настаивать, что именно диалог с классиками (в результате которого и происходит новое ее прочтение, уточненное понимание) — является принципиально важным в театре традиции. В диалоге ведь важны обе стороны: но поскольку классиками «все сказано», то «задающий» классику свои вопросы спустя десятилетия должен обладать высокой личностной культурой. Мне все же кажется, что Валерий Белякович мог быть более дерзостен в своих вопрошаниях к Горькому.
Знаменитый сатиновский тезис «человек — звучит гордо!», или тирады о творчестве Актера, или тоска о труде Клеща, или сама «романтика босячества», когда-то столь популярная в русском обществе — все это неизбежно скорректировано нашим временем (впрочем, честный талант Станиславского уже тогда, в работе над горьковской пьесой, не позволил вдохновиться босячеством). Сегодня уже не нужно идти в хитровские ночлежки, чтобы увидеть «фигуры, дразнящие презрением к вашей чистоплотности» (достаточно просто выйти из дома), уже невозможно искать в горьковских героях романтику и «своеобразие дикой красоты» («дикую красоту» превзошли не только бомжи и беспризорники, но и благополучные граждане, пирсингом и тату уродующие свои тела). Сегодня уже нельзя сочувствовать поиску «новой веры» Лукой (разве не желание «обновить веру» и обряд спекулятивно используют новые утешители и опростители — сектанты?). В психологическом театре равно важно то, что «внутри пьесы», как и то, что находится «за пьесой», то есть в самой жизни. Спектакль и становится местом встречи правды искусства и правды жизни. Напряженность этой оппозиции — горьковской романтики и сегодняшней ее горечи — могла бы дать режиссеру больший интеллектуальный масштаб в диалоге с М.Горьким. Все то, за что каждый горьковский герой держался как за ценное в своей собственной жизни, как за утешительное или сулившее надежду — все это, мы точно знаем, не может удержать в себе человеческое горе и беду, не может быть путем к другой, новой, жизни. А путей в спектакле «На дне» у героев и нет.
Между тем, спектакль довольно крепко держит внимание зрителей — в первую очередь актерскими работами (естественно, динамичность режиссуры Беляковича у него никто не отнимает). Мхатовские актеры в начале XXI века играют не «тесноту отношений», не невыносимое вынужденное соседство, но напротив — они скорее включены в борьбу за «правду» о себе, — в борьбу за настоящесть хоть какой-то малой, хоть какой-то прежней или будущей частицы своей жизни. Тут важна эта взаимная «вцепленность» друг в друга: с истерическим отчаянием будет доказывать Настя (арт. Т.Г.Поппе), что и у нее была роковая любовь. Эта придуманная любовь играется актрисой с предельной горячностью, но с еще большим ревнивым рвением она будет не любовь защищать, но требовать от других веры в нее. И тогда уже способность или неспособность верить хотя бы друг другу выступает в спектакле мерой живой или мертвой души. Парадоксальная получается ситуация: чтобы выжить в ночлежном аду, в жуткой, оскорбительной тесноте соседства, когда и умереть спокойно нельзя — им всем просто необходимо быть равнодушными и безразличными к страданиям другого (Сатин у В.Клементьева тут больше других преуспел, на то он и «философ»). Но не меньшие силы в этом спектакле тратятся на преодоление неизбежного равнодушия друг к другу. Не случайно каждый из обитателей ночлежки выводится режиссером на авансцену, дается «крупным планом», чтобы прокричать свою боль: от Наташи с ее мотивом обреченного хода собственной жизни (арт. Т.Г.Шалковская) до Барона с его истасканной и жалкой барственностью (арт. А.В.Самойлов) и Актера — с его страстью «разыграть» в пух и прах хотя бы и собственную жизнь (арт. В.Л.Ровинский).
В том-то, и дело, что образ мира, где цинизм «философичен», где бедность может быть наглой, где много разоренного в человеке, а «розовая доброта» Луки (арт. И.С.Криворучко) только усугубляет отчаяние, — в том-то и дело, что мир этот нас больше не страшит. И, кажется, понимая это, Валерий Белякович, одев спектакль и героев в белые одежды, словно отстранил нас от необходимости глубокого сострадания, выдвинув вперед со-мыслие спектаклю. Мы, наверное, уже в чем-то, увы, «переросли» горьковских людей дна — когда вся страна уходила на дно, некуда пойти было слишком многим; когда нынешняя свобода показала свой звериный оскал — тоска о свободе босяков воспринимается как «излишек»; ну а «босяцкий» горьковский романтизм уже никак не может пониматься в его положительности…
3
Еще раз подчеркну — диалог с классиками предполагает со-пряженность отношений. Но наши усилия понимания «их» и согласования «с собой» не требуют простого повторения известного, — классика нуждается не в повторении, а в осмыслении. У нее — своя жизнь: одни смыслы в ней растут, другие — умаляются, третьи остаются вечными. И наличие этого вечного, неразменного позволяет сохранять допустимую меру в диалоге (чтобы Гоголя не превратить в Зощенко, а Достоевского в драму абсурда). Радикальная режиссура, на мой взгляд, как раз не понимает в классике вечного, а потому «ударить кулаком в лицо» классику ей ничего не стоит.
МХАТ им. М.Горького сохраняет с классикой отношения уважительные и порядочные. Булгаков, Достоевский, Островский всегда узнаваемы — в них сохраняется неповторимый собственный сценический дух, ядро их драматургического мира.
«Белая гвардия» М.А.Булгакова была поставлена Т.В. Дорониной пятнадцать лет назад (в декабре 1991 года состоялась премьера). Спектакль звучал пронзительно — он буквально был программным.
В ту пору вопрос о правде «красной» и правде «белой» был самой что ни на есть жгучей реальностью. В «белой правде» настойчиво искали родства и связи с Россией исторической, в которой «Православие, самодержавие, народность» были реальными государство- и культурообразующими силами. В «белой мысли» тогда искали опору национальной идее — справедливого (монархического) устройства государства в «пику» тому, что рушилось на глазах в 1991 году. Стоит вспомнить дебаты, митинги и интеллектуальные собрания тех лет — их горячечную накаленную атмосферу, чтобы понять, как звучал тогда спектакль в режиссуре Т.В.Дорониной, поставившей, к тому же не «Дни Турбинных», а первоначальную редакцию булгаковской пьесы!
Поразителен пролог спектакля: в белых смертных одеждах выходят актеры на авансцену. Никого не пощадит революционное время — все погибнут. И как-то трудно назвать «музыкальным оформлением» пролога возглашения дьякона, призывающего к молитве о помиловании. И мы вспомним о ней вновь уже в финале спектакля, когда пять мужчин, пять офицеров, выхваченных светом лампы, остаются в безмолвии перед закрытием занавеса — теперь уже нам, зрителям, хочется шептать слова молитвы…
Татьяне Дорониной уже тогда было ясно то, к чему участники свирепейших идейных битв приходят только сейчас. Она уже тогда боялась «жизнь оболгать». Во времени Вечном Господь помилует всех честных воинов на поле брани убиенных, всех до конца преданных правде своей — «красной» или «белой». Так, не изменяя и не коверкая пьесы, впустила режиссер на сцену современность. Взгляд из будущего на булгаковскую драму требовал новых акцентов. И они были сделаны со всей интеллектуальной и человеческой честностью.