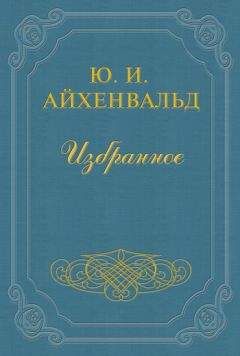Николай Аксаков - Людвиг Кондратович (Вл. Сырокомля)
Ахъ, Литвина даромъ пѣсни Богъ не наградилъ:
Камень – памятникъ въ отчизнѣ пѣсню замѣнилъ.
Что же въ камнѣ? Онъ погибнетъ, онъ во прахъ падетъ,
Можетъ быть, пойдетъ на жерновъ, мохомъ заростетъ,
И преданіе погибло… А для струнъ пѣвца,
Что за творческое поле, поле безъ конца —
Пѣть кресты, курганы наши и гроба князей
Отъ Мендоговой могилы и до нашихъ дней.
Камнемъ или другимъ какимъ либо вообще неодушевденнымъ предметомъ отмѣчалися, какъ признается это и самою наукою, первыя событія народной жизни, касающіяся всего народа или какого либо изъ обособленныхъ его членовъ, и отмѣчалися все съ одною и тою же цѣлью – сохранить, укрѣпить за потомствомъ память о совершившемся. Строились ли пирамиды изъ камня, кирпича или череповъ человѣческихъ, воздвигались ли грубо отесанные изъ камня мавзолеи, мирные кресты или другіе какіе либо символы прошлаго, высѣкались ли надписи на горныхъ уступахъ или столбахъ на римскихъ и греческихъ площадяхъ – всегда преслѣдовалась одна и таже задача – закрѣпить вѣковѣчнымъ символомъ, вѣковѣчнымъ намекомъ переходящее изъ устъ въ уста преданіе, чтобы достигалась вѣчная память событія или человѣка, чтобы молва потомства
Однихъ хвалой безмертной увѣнчала,
Другихъ покрылъ безславія позоръ.
Камень или всякій вообще монументъ, какъ бы простъ и даже безформенъ онъ ни былъ, является, такимъ образомъ, символическимъ укрѣпленіемъ преданія, намекомъ для передачи сохраняющихся изъ рода въ родъ воспоминаній, которыя безъ этого намека легко могли бы изгладиться, безъ слѣда исчезнуть; это, такъ сказать, – исторіографія втораго порядка, исторіографія, ведшаяся всегда и ведущаяся постоянно. Пусть передается исторія прошлаго письменами, лѣтописью, мемуарами и т. п., устное преданіе еще не замираетъ.
И селянинъ неграмотный для внука
Другимъ путемъ хранитъ о прошломъ вѣсть.
Ему ль писать? Чужда ему наука,
А все жъ въ душѣ глубоко жажда есть,
Чтобъ чуждый гость иль сынъ того жъ селенья
Узналъ о томъ, что было здѣсь давно,
И чтобъ навѣкъ избавить отъ забвенья
Все то, что здѣсь въ землѣ погребено.
Онъ не пестритъ пергаментъ письменами,
Но крестъ беретъ и горсть земли родной,
И старина нетлѣнными чертами
Возносится къ лазури голубой.
А вдоль, села прохожій дѣдъ порою,
На костылѣ пройдетъ къ рядамъ могилъ,
И, предъ крестомъ поникнувъ головою,
Рѣчь поведетъ о прошломъ старожилъ.
Латынь не сыщетъ, въ юношахъ вниманья, —
Пергаментъ стлѣетъ, лѣтопись сгніетъ,
Крестами же гласимыя преданья
Ничто во вѣкъ въ потомствѣ не сотретъ.
Падетъ ли крестъ – другой съ нимъ рядомъ встанетъ,
Умретъ ли дѣдъ – другой бредетъ туда,
А молодость въ разспросахъ не устанетъ,
Готовъ боянъ и слушатель всегда.
Такъ переходитъ лѣтопись живая
Изъ рода въ родъ, вѣка передавая.
Совершенно понятно, что при подобномъ измѣненномъ и расширенномъ представленіи объ исторіи и ея факторахъ, равно какъ и объ источникахъ, изъ которыхъ она воспроизводится, долженъ былъ расшириться и получить иное значеніе и самый ея объемъ и содержаніе, измѣниться и самый историческій критерій. Событія и лица, проходящія черезъ исторію, получили иную совершенно оцѣнку, потону что стали измѣряться не по какой либо отвлеченной программѣ, хотя бы и истоірически укоренившейся, а по отношенію ихъ ко всей совокупности народа, вѣчно забитаго и забытаго въ польской исторіи. Сырокомля смотритъ на историческую жизнь изъ среды самаго пережившаго и переживающаго ея народа, а не изъ партіи, сословія или таинственнаго западнаго далека, а потому и естественно, что онъ видитъ яснѣе и притомъ, въ болѣе правильномъ свѣтѣ. Мы приведемъ только два примѣра этого измѣнившагося историческаго сознанія.
Во всѣхъ обильныхъ пѣснопѣніяхъ Сырокомли нѣтъ положительно ни одного, которое выражало бы сколько нибудь вражду къ Россіи и русскому народу. Въ исторической поэмѣ «Три Литвинки», весьма близкой по содержанію къ извѣстной балладѣ Мицкевича «Будрысъ», къ старому литвину являются поочередно витязи нѣмецкій, русскій и польскій и въ то самое время, когда каждое упоминаніе о нѣмцѣ сопровождается какимъ-нибудь не слишкомъ лестнымъ для него эпитетомъ, поляка съ его дружиною вождь сѣдой ласкаетъ,
За одно укоряетъ.
«Что вы Нѣмцевъ въ конецъ не побили!»
и къ гостю изъ Кіева-града относится Литвинъ съ полнымъ радушіемъ, безъ всякихъ проявленій племенной вражды. Сочувственныхъ выраженій объ Украинѣ можно бы набрать безчисленное количество, да и эпилогъ «Ночлега гетмана» служитъ достаточнымъ, самъ по себѣ, доказательствомъ. Даже казакъ 12-го года – это все европейское пугало является въ поэмѣ «Власъ» освѣщеннымъ нравственнымъ чувствомъ, хотя имъ и избивается польская банда. Сырокомля преклонялся передъ кобзарями Украины и преимущественно передъ Шевченкой. Онъ былъ друженъ съ русскимъ поэтомъ Мейемъ и переводилъ много изъ русскихъ поэтовъ – Лермонтова, Некрасова и др., точно также, какъ переводилъ много изъ «Кобзаря» Шевченки.
Но измѣнившееся историческое сознаніе сказывалось не только отрицательнымъ, а и положительнымъ также образомъ у Сырокомли. Вотъ для примѣра его сужденіе о Наполеонѣ, за которое ему, конечно, много доставалось отъ соотечественниковъ. Сырокомля высказываетъ, впрочемъ, сужденіе свое не объ одномъ только Наполеонѣ, а обо всей его эпохѣ и увлеченіяхъ, которыя ее сопровождали.
Бурно, кроваво, съ неистовымъ жаромъ
Всюду война разливалась пожаромъ.
Гальскій диктаторъ въ гремящихъ словахъ
Началъ поэму о грозныхъ дѣлахъ.
Армію бралъ онъ для строчекъ поэмы,
Тысячи войскъ для куплетовъ и темы;
Сердце въ немъ пушечной билось пальбой,
Стало полміра бумагой простой,
Гдѣ исписалась поэма большая,
Каждая строчка вполнѣ мастерская…
Смыслъ ее пламенемъ адскимъ дышалъ;
Много великаго онъ написалъ….
Римъ зачеркнулъ онъ чертою кровавой,
Переступилъ черезъ Альпы со славой,
На пирамиды взоръ гордый навелъ,
Страны Германскія дважды прошелъ,
Гордой стопою попралъ Пиринеи,
Въ людяхъ надежды зажегъ и идеи,
Шествуя грознымъ, кровавымъ путемъ…..
Божье призваніе видѣли въ немъ….
Нѣтъ! это просто дор о гой избитой
Шелъ въ полубоги титанъ знаменитый…
Грозной поэмы, дышавшей огнемъ,
Строй увѣнчался обычнымъ концомъ:
Спѣсь лишь въ права свои гордо вступила,
Творчество-жъ Божіе чуждо ей было,
Чуждо въ напыщенныхъ фразахъ пустыхъ,
Чуждо въ раскатахъ громовъ боевыхъ…..
«Всемірный идолъ» сокрушился, понизился въ глазахъ Сырокомли потому, что къ ходу историческихъ событій онъ примѣнилъ иную оцѣнку; иной критерій, такъ какъ смотрѣлъ на нихъ изъ среды народа во всей его совокупности, чуждаясь отвлеченно урѣзаннаго его кругозора.
Воззрѣнія Сырокомли на отечество и его значеніе имѣли, однако, и свою слабую сторону, которая не можетъ ускользнуть отъ взгляда даже и поверхностнаго наблюдателя. Эта сторона выражается прежде всего въ чисто областномъ, помѣстномъ, а потому и чисто субъективномъ характерѣ его патріотизма, весьма близко приближающемся къ тому, что французы остроумно называютъ – patriotisme de clohet или къ тому, что подъ именемъ Heimweh – тоски по мѣсту рожденія обращается въ физическую болѣзнь для нѣкоторыхъ горныхъ племенъ, напр. швейцарцевъ. Отчизна мила и дорога намъ потому, что мы въ ней родились и жили, потому, что съ нею неразрывно соединены всѣ воспоминанія, въ которыхъ играемъ мы сами живую, дѣятельную роль. И воспоминанія эти не должны еще быть непремѣнно веселыми, радостными; край родной можетъ быть дорогъ намъ и какъ товарищъ грустнаго, тяжелаго прошлаго.
Но отчего же
Память о дальнемъ, минувшемъ моемъ
Блещетъ плѣнительнымъ, свѣтлымъ вѣнцомъ?
Въ этомъ сіяньи встаютъ, какъ живыя,
Тѣни минувшаго, тѣни родныя….
Край, увидавшій мой первый разцвѣтъ,
Больше возврата куда уже нѣтъ….
И уношусь я сквозь дымку былаго
Къ кровлѣ завѣтной жилища роднаго,
Къ камнямъ знакомымъ родимыхъ церквей,
Къ вѣтру, что дуетъ съ родимыхъ полей….
Свѣтлыхъ видѣній встаетъ вереница:
И голоса и знакомыя лица
Тѣхъ, съ кѣмъ такъ близко когда-то я жилъ,
Хлѣбъ ѣлъ по-братски и пищу дѣлилъ.
Мы совершенно согласны, что этотъ патологическій патріотизмъ, художественно изображенный въ грустной поэмѣ «Янко Кладбищенскій», составляетъ необходимое послѣдствіе, а отчасти даже и условіе всякаго истиннаго патріотизма; но у Сырокомли онъ является слишкомъ уже господствующимъ, и причина этого таится въ другой слабой сторонѣ воззрѣній поэта нашего на родинѣ, о которой и скажемъ мы нѣсколько словъ.