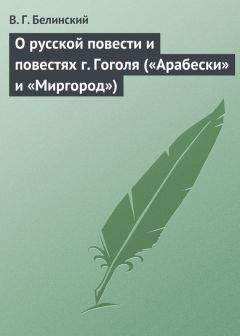Виссарион Белинский - Русская литература в 1843 году
Автор этих строк хотел сказать одно, а вышло у него совсем другое. Он хотел пошутить, посмеяться, уколоть кое-кого, не называя его по имени, – и указал на факт современной русской литературы, факт, который трудно сделать смешным и не такому остроумному перу, каким владеет автор выписанных нами строк. Факт этот состоит в том, что со времени выхода в свет «Миргорода» и «Ревизора» русская литература приняла совершенно новое направление. Можно сказать без преувеличения, что Гоголь сделал в русской романической прозе такой же переворот, как Пушкин в поэзии. Тут дело идет не о стилистике, и мы первые признаем охотно справедливость многих нападок литературных противников Гоголя на его язык, часто небрежный и неправильный. Нет, здесь дело идет о двух более важных вопросах: о слоге и о создании. К достоинствам языка принадлежит только правильность, чистота, плавность, чего достигает даже самая пошлая бездарность путем рутины и труда. Но слог, это – сам талант, сама мысль. Слог – это рельефность, осязаемость мысли; в слоге весь человек; слог всегда оригинален как личность, как характер. Поэтому у всякого великого писателя свой слог: слога нельзя разделить на три рода – высокий, средний и низкий: слог делится на столько родов, сколько есть на свете великих или по крайней мере сильно даровитых писателей. По почерку узнают руку человека и на почерке основывают достоверность собственноручной подписи человека: по слогу узнают великого писателя, как по кисти – картину великого живописца. Тайна слога заключается в уменьи до того ярко и выпукло изливать мысли, что они кажутся как будто нарисованными, изваянными из мрамора. Если у писателя нет никакого слога, он может писать самым превосходным языком, и все-таки неопределенность и – ее необходимое следствие – многословие будут придавать его сочинению характер болтовни, которая утомляет при чтении и тотчас забывается по прочтении. Если у писателя есть слог, его эпитет резко определителен, всякое слово стоит на своем месте, и в немногих словах схватывается мысль, по объему своему требующая многих слов. Дайте обыкновенному переводчику перевести сочинение иностранного писателя, имеющего слог; вы увидите, что он своим переводом расплодит подлинник, не передав ни его силы, ни определенности. Гоголь вполне владеет слогом. Он не пишет, а рисует; его фраза, как живая картина, мечется в глаза читателю, поражая его своею яркою верностию природе и действительности. Сам Пушкин в своих повестях далеко уступает Гоголю, имея свой слог и будучи, сверх того, превосходнейшим стилистом, то есть владея в совершенстве языком. Это происходит оттого, что Пушкин, в своих повестях, далеко не то, что в стихотворных произведениях или в «Истории Пугачевского бунта», написанной по-тацитовски. Лучшая повесть Пушкина – «Капитанская дочка», далеко не сравнится ни с одною из лучших повестей Гоголя, даже в его «Вечерах на хуторе». В «Капитанской дочке» мало творчества и нет художественно очерченных характеров, вместо которых есть мастерские очерки и силуэты. А между тем повести Пушкина стоят еще гораздо выше всех повестей предшествовавших Гоголю писателей, нежели сколько повести Гоголя стоят выше повестей Пушкина. Пушкин имел сильное влияние на Гоголя – не как образец, которому бы Гоголь мог подражать, а как художник, сильно двинувший вперед искусство и не только для себя, но и для других художников открывший в сфере искусства новые пути. Главное влияние Пушкина на Гоголя заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, «состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа». Статья Гоголя «Несколько слов о Пушкине» лучше всяких рассуждений показывает, в чем состояло влияние на него Пушкина. Приученная к тону и манере повестей Марлинского, русская публика не знала, что и подумать о «Вечерах» Гоголя. Это был совершенно новый мир творчества, которого никто не подозревал и возможности. Не знали, что думать о нем, не знали, слишком ли это что-то хорошее, или слишком дурное. Повести в «Арабесках»: «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего», потом «Миргород» и, наконец, «Ревизор» вполне обрисовали характер Гоголевой поэзии, и публика, равно как и литераторы, разделились на две стороны, из которых одна, преусердно читая Гоголя, уверилась, что имеет в нем русского Поль-де-Кока, которого можно читать, но под рукою, не всем признаваясь в этом; другая увидела в нем нового великого поэта, открывшего новый, неизвестный доселе мир творчества. Число последних было несравненно меньше числа первых, но зато последние, в этом случае, представляли собою публику, а первые – толпу. Наша толпа отличается невероятною чопорностию, достойною мещанских нравов: она всего больше хлопочет о хорошем тоне высшего общества и видит дурной тон именно в тех произведениях, которые читаются в салонах высшего общества. Между тем реформа в романической прозе не замедлила совершиться, и все новые писатели романов и повестей, даровитые и бездарные, как-то невольно подчинились влиянию Гоголя. Романисты и нувеллисты старой школы стали в самое затруднительное и самое забавное положение: браня Гоголя и говоря с презрением о его произведениях, они невольно впадали в его тон и неловко подражали его манере. Слава Марлинского сокрушилась в несколько лет, и все другие романисты, авторы повестей, драм, комедий, даже водевилей из русской жизни, внезапно обнаружили столько неподозреваемой в них дотоле бездарности, что с горя перестали писать, а публика (даже большинство публики) стала читать и обращать внимание только на молодых талантливых писателей, которых дарование образовалось под влиянием поэзии Гоголя. Но таких молодых писателей у нас немного, да и они пишут очень мало. И вот еще одна из главных причин бедности современной русской литературы! Если кто больше всего и больше всех виноват в ней, так это, без сомнения, Гоголь. Без него у нас много было бы великих писателей, и они писали бы и теперь с прежним успехом. Без него Марлинский и теперь считался бы живописцем великих страстей и трагических коллизий жизни; без него публика русская и теперь восхищалась бы «Девою чудною» барона Брамбеуса, видя в ней пучину остроумия, бездну юмору, образец изящного слогу, сливки занимательности и пр. и пр.{22}
Гоголь убил два ложные направления в русской литературе: натянутый, на ходулях стоящий идеализм, махающий мечом картонным, подобно разрумяненному актеру и потом – сатирический дидактизм. Марлинский пустил в ход эти ложные характеры, исполненные не силы страстей, а кривляний поддельного байронизма; все принялись рисовать то Карлов Мооров в черкесской бурке, то Лиров и Чайльд-Гарольдов в канцелярском вицмундире. Можно было подумать, что Россия отличается от Италии и Испании только языком, а отнюдь не цивилизациею, не нравами, не характером. Никому в голову не приходило, что ни в Италии, ни в Испании люди не кривляются, не говорят изысканными фразами и не беспрестанно режут друг друга ножами и кинжалами, сопровождая эту резню высокопарными монологами. Презрение к простым чадам земли дошло до последней степени. У кого не было колоссального характера, кто мирно служил в департаменте или ловко сводил концы с концами за секретарским столом в земском или уездном суде, говорил просто, не читал стихов и поэзию предпочитал существенности, – тот уже не годился в герои романа или повести и неизбежно делался добычею сатиры с нравоучительною целью. И – боже мой! – как страшно бичевала эта сатира всех простых, положительных людей за то, что они не герои, не колоссальные характеры, а ничтожные пигмеи человечества. Она так безобразно отделывала их своею мочальною кистию, своими грязными красками, что они нисколько не походили на людей и были до того уродливы, что, глядя на них, уже никто не решался брать взяток, ни предаваться пьянству, плутовству и проч. Прошло это время, – и общество, которое так хорошо уживалось с такою литературою, теперь часто ссорится с нею, говоря: как можно писать то-то, выставлять это-то, выдумать такое-то – и многие из этого общества чуть не со слезами на глазах клянутся, что ничего не бывает, например, подобного тому, что выставлено в «Ревизоре», что все это ложь, выдумка, злая «критика», что это обидно, безнравственно и пр. И все, довольные и недовольные «Ревизором», знают чуть не наизусть эту комедию Гоголя… Такое противоречие стоит того, чтоб обратить на него внимание.
Прежде сатира смело разгуливала между народом, середи белого дня и даже не заботилась об инкогнито, но прямо и открыто называлась своим собственным именем, то есть сатирою, – и никто не сердился на нее, никто даже не замечал ее гримас и кривляний. Отчего это? – оттого, что никто не узнавал себя в ней; оттого, что она нападала на пороки общие, которых всякий имеет полное право не принять на свой счет; оттого, что она была книгою, печатною бумагою, невинным школьным упражнением по классу риторики… И давно ли нраво-описательные, нравственно-сатирические романы, юмористические статьи и статейки являлись стаями, как вороны на крышах домов, каркая на проходящих во все воронье горло? – и на них никто не сердился, даже как сердятся летом на докучных мух. Сочинитель гордо называл себя сатириком, гонителем людских пороков, – и гонимые люди без боязни подходили к своему гонителю, к дряхлому беззубому бульдогу, гладили его по толстой и лоснящейся шее и охотно кормили его избытком своей трапезы. Отчего это? – оттого, что пороки, которые гнал сатирик, были совсем не пороки, а разве отвлеченные идеи о пороках, риторические тропы и фигуры. Это были своего рода бараны и мельницы, с которыми храбро и отважно сражался сатирический дон-Кихот, – так же, как добродетель, за которую он ратовал, была для него воображаемою Дульцинеею, а для других – толстою, безобразною коровницею. Теперь нет сатиры и только разве какой-нибудь старый сочинитель решится величаться вышедшим из моды именем «сатирика»: теперь пишутся романы и повести без всяких сатирических намерений и целей, – а между тем все на них сердятся. Отчего ж это? – оттого, что теперь и великие и малые таланты, и посредственность и бездарность – все стремятся изображать действительных, не воображаемых людей; но так как действительные люди обитают на земле и в обществе, а не на воздухе, не в облаках, где живут одни призраки, то, естественно, писатели нашего времени, вместе с людьми, изображают и общество. Общество также – нечто действительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляют не одни костюмы и прически, но и нравы, обычаи, понятия, отношения и т. д. Человек, живущий в обществе, зависит от него и в образе мыслей и в образе своего действования. Писатели нашего времени не могут не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человека, они стараются вникать в причины, отчего он таков или не таков, и т. д. Вследствие этого, естественно, они изображают не частные достоинства или недостатки, свойственные тому или другому лицу, отдельно взятому, но явления общие. Большинство же публики именно там-то и видит личности, где их нет и быть не может. Прежние так называемые сатирики именно списывали с известных им лиц – и казались в глазах всех неподлежащими упреку в личностях. И это очень понятно: сами оригиналы не узнавали себя в снятых с них копиях, потому что сатирики не могли печатно касаться обстоятельств того или другого лица и ограничивались общими чертами пороков, слабостей и странностей, которые, будучи отвлечены от живой личности, превращались в образы без лиц. Притом же эти сатирики смотрели на пороки и слабости людей, как на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, как на что-то произвольное, что это лицо могло иметь и не иметь по своей воле и что приобрести или от чего избавиться оно легко могло по прочтении убедительной сатиры, где ясно, по пальцам, доказана выгода и сладость добродетели и опасные, пагубные следствия порока. Вот почему эти добрые сатирики брали человека, не обращая внимания на его воспитание, на его отношения к обществу, и тормошили на досуге это созданное их воображением чучело. В основание своего сатирического донкихотства они положили общественную нравственность, добродушно не подозревая того, что их сатиры, опирающиеся на общественную нравственность, ужасно противоречили этой нравственности. Так, например, в числе первых добродетелей они полагали безусловное повиновение родительской власти и в то же время толковали юношеству, что брак по расчету – дело безнравственное, что низкопоклонство, лесть из выгод, взяточничество и казнокрадство – тоже дела безнравственные. Очень хорошо; но что же иному юноше делать, если он с малолетства, почти с материнским молоком, всосал в себя мистическое благоговение к доходным должностям, теплым местам, к значительности в обществе, к богатству, к хорошей партии, блестящей карьере; если его младенческий слух был оглашен не словами любви, чести, самоотвержения, истины, а словами: взял, получил, приобрел, надул и т. п.? Положим, что такому юноше природа не отказала в человеческих чувствах и стремлениях; положим, что в нем пробудилась любовь к достойной, но бедной, простого звания девушке, любовь, запрещающая ему соединиться с противною ему богатою дурою, на которой, по расчетам, приказывают ему жениться; положим, что в юноше пробудилось человеческое достоинство, запрещающее ему кланяться богатому плуту или чиновному негодяю; положим, что в нем пробудилась совесть, запрещающая употреблять во зло вверенные ему высшею властию весы правосудия и расхищать вверенные его бескорыстию общественные суммы; что ему тут делать? Сатирик не затруднится от такого вопроса и, не задумавшись, ответит: «жениться на предмете любви своей, служить честно и верно отечеству»… Прекрасно; но где же повиновение родительской власти, где уважение к родительскому благословению, навеки нерушимому, где страх тяжкого отцовского проклятия?.. И потом, где уважение к общественному мнению, к общественной нравственности? Ведь общество не спрашивает вас, по любви или не по любви женились вы, а спрашивает, сколько вы взяли за женою и приличная ли она вам партия; общество не спрашивает вас, каким образом сделались вы богачом, когда ему известно, что ваш батюшка не оставил вам ни копейки, а за супругою вы взяли не бог знает что или и вовсе ничего не взяли: общество знает только, что вы богач, и потому считает вас очень хорошим – «благонамеренным» человеком… Послушайся наш юноша сатирика, что бы вышло? – отец его бросил бы, жалуясь на неповиновение и презрение к его власти; потом он прошел бы, с женою и детьми, через все мытарства, через все унижения голодной, неопрятной, оборванной бедности; видел бы к себе презрение общества, а за свою правоту, за свое бескорыстие был бы заклеймен от всех страшными названиями беспокойного, опасного и «неблагонамеренного» человека, вольнодумца и проч., и пр. И неужели вы, «благонамеренные» сатирики, бросите в него камень осуждения, если, истощась и обессилев в тяжелой и бесплодной борьбе, он дойдет до страшного убеждения, что его бедность, его несчастия – необходимые следствия отцовского гнева, заслуженная кара за презрение общественного мнения и общественной нравственности?.. Но, к счастию или к несчастию – не знаем, право, – такие случаи весьма редки, как исключения из общего правила. По большей части бывает так: юноша недолго колеблется между любовью и выгодною женитьбою, между «завиральными идеями» о бескорыстии и правоте и уважением общества: он женится на ком прикажут дражайшие родители, живет с женою, как все, то есть прилично содержит ее, воспитывает детей своих, как все, то есть прилично кормит и одевает их, учит по-французски и танцовать, а после этого первого и важнейшего периода воспитания отдает в учебное заведение, потом выгодно пристраивает в службу, выгодно женит (или выдает замуж) и, умирая, отказывает им «благоприобретенное» на службе имение. И что же? В начале его поприща все превозносят его как почтительного сына, в конце поприща – как нежного супруга, примерного отца, «благонамеренного» чиновника и заключают так: «вот что значит уважение к общественной нравственности! вот что значит родительское благословение, навеки нерушимое!» Итак, наш «благонамеренный» сатирик, бич пороков, самым нелепым образом противоречил самому себе: поставив выше всех добродетелей повиновение не богу, не истине, а эгоистическим расчетам, он в то же время учил юношу следовать свободному выбору сердца, как знамению благословения божия, и запрещал ему торговать священнейшими склонностями своей души; поставив выше всякой награды любовь и уважение общества, он в то же время учил юношу оскорблять основные правила этого самого общества… Впрочем, он это делал, сам не зная, что делает, и поэтому его сатиры не производили никаких следствий. Бывало, выйдет сатирический роман с похождением какого-нибудь пройдохи, вроде известных похождений Совестдрала-Большого-Носа, – роман, в котором уже самые имена действующих лиц – Ухорезовы, Надуваловы, Шлюхины, Правосудовы, Беспристрастовы, Бескорыстны, Миловидины, Правдолюбовы и т. п. обнаруживали нравственную мысль сочинителя, – и что же? – самый отъявленный взяточник, самый бесчестный казнокрад, самый отчаянный шулер читал этот роман с удовольствием и везде расхваливал его вслух, говоря: «Какой славный слог! во всем чистейшая нравственность; добродетель торжествует, порок наказан – чего же больше? чудесный роман!»