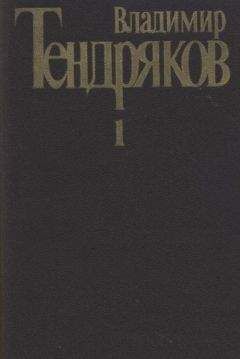Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
Но этого-то малого как раз и не хватало, чтоб вскрыть извечное заблуждение последователей Моисея, насаждавших правила нравственного поведения с церковных амвонов и профессорских кафедр. И сам Толстой занимался проповедничеством, имел многочисленных последователей, вызывавших любопытство, но не пользовавшихся авторитетом и влиянием в обществе. Толстой видел — поступки людей несамостоятельны, зависимы, но тем не менее призывал: поступай так-то и так-то! А требовать от человека определенных действий, когда он несамостоятелен в них, столь же нелепо, как заставлять двигаться парусник без учета ветра.
Каждый человек находится одновременно внутри нескольких действующих систем, взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга, подчиненных и подчиняющих друг друга. Любой и каждый из нас есть составная частица сложного функционирующего общественного компонента.
По истории, по опыту своей жизни, по художественной литературе мы знаем, как часто стихийно сложившаяся человеческая система заставляет высоконравственных людей поступать безнравственно. Но мы знаем и примеры, когда человек создавал, пусть пока не масштабные, ограниченные, не слишком сложные, организации, которые вынуждали испорченных людей поступать достойно. Известный опыт колоний Макаренко тому пример.
Истоки нравственного поведения не столько в самом человеке, сколько в человеческом устройстве. Понять эти устройства — значит открыть механизм влияния на поведение личности. Знание же этого механизма даст возможность видоизменять его в нужном направлении, чтоб он побуждал людей к нравственным поступкам, препятствовал поступкам безнравственным. Без назойливых проповедей, без внушения элементарных, всем известных правил поведения. Не словесное наставничество, а неумолимые обстоятельства станут направлять человека. Если такое случится, жизнь преобразится на земле.
Если случится, то в самом начале этих преобразований будет стоять величественная фигура Толстого, знаменующая перевал со старого нравственного пути на путь новый. Он — предтеча.
В самый разгар выяснения своих отношений с Толстым я решил навестить Ясную Поляну, мимо которой прошел военной весной под соловьиное пение.
Я вылез из машины и оглянулся, стараясь вспомнить, где тут тридцать лет назад стоял подбитый немецкий вездеход. Мне казалось — если вспомню, то вновь испытаю то высокое, до самозабвенья, чувство вечности, с которого, наверно, и началась моя сознательная жизнь. Но все кругом было оскорбительно непохоже на то, что хранила память, — деревня слишком близко стояла к усадьбе, травянистый склон от нее упирался в заасфальтированную площадку, забитую легкомысленно разноцветными легковыми машинами. А посреди площадки стоял негр, долговязый и нескладный, как богомол, в накрахмаленной сорочке и коротких, по щиколотку брючках, — сын Африки, совершивший паломничество к тульскому оракулу. Нет, не угадать, где стоял немецкий вездеход, весь мир неузнаваемо изменился за эти годы. Прошлое не связывалось с настоящим.
Мы бродили по усадьбе весь день, вышли, когда солнце уже садилось, асфальтовая площадка перед воротами была пуста, стояла только одна наша машина. И, взглянув на нее, я вздрогнул — вдруг все стало на место, крыши деревни, травянистый склон… Наша машина стояла как раз там, где прежде торчал подбитый вездеход.
Прошлое связалось с настоящим, но чувства вечности я так и не испытал. Оно осталось там, в другом времени, в моей юности.
1978
Проселочные беседы
Черепаха, которая жила под письменным столом, была вегетарианкой, и Алексей Николаевич взялся доставлять ей к ужину букет луговой кашки. На эту ответственную операцию неизменно приглашался я, помимо всего, надо полагать, на роль Дерсу Узала местного значения. К вечеру под моим окном вырастал он — вдохновенная голова на тонкой шее, кофта, ниспадающая с плеч столь вольными складками, что сомневаешься в существовании плоти под ней, и белые резиновые тапочки на ногах.
Я не был ни его учеником, ни коллегой, в стороне от той науки, которой он отдал жизнь, не отстаивал с ним плечо в плечо общее кредо — всего-навсего лишь его досужий собеседник в часы отдыха. Но, право, это не так уж и мало. Оглядываясь назад, я теперь чаще вспоминаю даже не тех, с кем когда-то жался под артобстрелом в одном окопе, жил койка в койку в студенческом общежитии или колесил по экзотическим командировкам, а тех, с кем приходилось содержательно беседовать. Надо сказать, мне везло на собеседников — мечущийся страстотерпец-правдоискатель Валентин Овечкин, Александр Твардовский, всегда яркий, не всегда безобидный, способный и обнадежить откровением и уязвить до болезненных корчей. Но я не встречал собеседника умней Алексея Николаевича Леонтьева.
Нет, не ум привлек меня поначалу к нему, хотя, едва познакомившись, мы начали «перекатывать» глобальные проблемы. Нужно было сперва привыкнуть к его скрупулезной, всегда сложной манере изложения, не шарахаться от парадоксальности его суждений, научиться ставить себя на его точку зрения. Это пришло ко мне не сразу, а раньше, я открыл в нем интеллигентность характера…
Кто как, а я лично хронически страдаю от нехватки интеллигентности, быть может, потому, что и сам ею обделен. Трудно определить, что понимаю под интеллигентностью, скорей всего, наличие в человеке той струны, которая чутко отзывается на твои колебания. Это в Алексее Николаевиче было. Старше меня на двадцать лет, он успел в отрочестве вдохнуть ту атмосферу, которую одухотворяли Лев Толстой, Чехов, Короленко, и это придавало интеллигентности Алексея Николаевича особый колорит.
Впрочем, однажды он тут обманул мои ожидания. В Сиене нас, группу русских туристов, повели в музей вин. Яркое солнце Италии снаружи, загадочный сумрак внутри стен средневековой крепости, ошеломляющее разнообразие выставленных бутылок настроили меня на благоговейный лад. Мне вспомнились слова Ланжевена, великого физика и тонкого знатока вин: «Вино не пьют, о вине говорят». И во вдохновенном порыве я решил купить предельно дорогую для моих скудных туристических финансов бутылку вина, мысленно поклявшись себе, что разопью ее дома с наиболее интеллигентным собеседником из моих знакомых.
Разумеется, им оказался Алексей Николаевич Леонтьев. Мы уселись друг против друга, сосредоточенно вчитались в пеструю этикетку на бутылке, осведомленней, однако, не стали, торжественно раскупорили, расплеснули по стаканам, дружно внюхались, переглянулись… Вино пахло вином, ничем более. Сдержав позыв разом опрокинуть, мы принялись церемонно смаковать. У музейного напитка был едко-кислый вкус. Конечно, в этой кислятине должны существовать знаменательные оттеночки, но мне они, увы, недоступны, я лишь старался не кривить физиономию, ждал восторгов от чуткого Алексея Николаевича. Но лицо его было непроницаемо, а уста запечатаны.
«Вино не пьют, о вине говорят». Однако музейный напиток не только не служил темой для разговора, он как-то пришиб нас. Осторожненько прикладывались, настороженно наблюдая друг за другом, стоически, не морщились, подавленно молчали… Я хотел налить по второй, однако Алексей Николаевич виновато, должно быть, сам презирая себя, изрек:
— Владимир Федорович, все-таки я предпочитаю водку.
Господи! Да я — тоже! Через минуту на столе стояла обычная водка. Она-то быстро развязала нам языки, но вино так и не стало темой нашего разговора.
Алексей Николаевич нес к дому блуждающую улыбку, я его торжественно провожал. Встретившая нас Маргарита Петровна вгляделась в мужа и сокрушенно объявила:
— Не тот стал Леонтьев! Не-ет! Раньше, в молодости, бывало, выпьет выбирает дерево и… да, карабкается. Лихо и весело!
— Да неуж! — умилился я.
— Во хмелю, кто насколько может, становится ближе к предкам, — апостольски провозгласил Алексей Николаевич.
Однако случай сей редкий, не застолье объединяло нас, а проселочные и лесные дорожки, «гулятивные беседы», как называл Алексей Николаевич.
Тропинка вдоль невыколосившегося поля, медовый запах клевера, благорастворение в воздухах, а два весьма почтенного возраста чудака — кто бы послушал — всерьез, углубленно толкуют об… отрубленной голове. Да, о голове профессора Доуэля, отрубленной и оживленной фантазией писателя Александра Беляева.
Собственно, к ней нас привели рассуждения на тему, которую средневековые схоласты сформулировали бы в виде вопроса — где гнездится душа? Ну, а мы лишь несколько его конкретизировали: можно ли считать центральную нервную систему (мозг) единственным вместилищем сознания? То есть могла ли нормально функционировать голова профессора Доуэля на лабораторном блюде?
Я видел причину ненормальности только в том, что сознание будет чрезвычайно травмировано исключительной человеческой неполноценностью, своего рода сверхинвалидностью, отсюда — психическая угнетенность, апатия и пр. и пр., вплоть до нежелания существовать в виде обрубка.



![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)