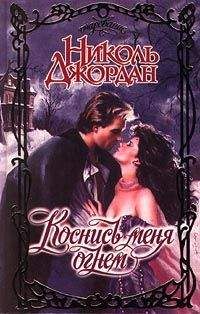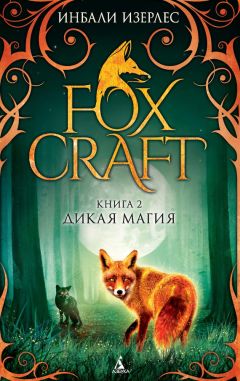Лазарь Лазарев - Записки пожилого человека
И сразу же за этим в книге Галлая следует место, посвященное полету Гагарина:
«Через много лет после испытаний опытной серии „ТУ — сто четвертых“ это же выражение неожиданно прозвучало в совсем иной обстановке. Только что оторвалась от опор и пошла вверх ракета-носитель с первым пилотируемым космическим кораблем „Восток“. В подземной „пультовой“ космодрома стоят несколько человек с Главным конструктором С. П. Королевым во главе. Все, естественно, напряжены до предела. И в этот момент — как разрядка — из динамика радиосвязи с кораблем раздается голос Гагарина: — Поехали!
Все-таки он был прежде всего авиатором, наш первый космонавт. И привычное в авиации „поехали“ привнес, наверное, навсегда и в космическую терминологию».
К этому стоит добавить, что «поехали» Гагарин, конечно, не раз слышал от своего инструктора по пилотированию — по свойственной ему скромности Галлай не хотел и не мог об этом писать.
И самое главное, как свидетельствует Галлай, «поехали» было произнесено первым космонавтом без какой-либо аффектации, «не от всего сердца», не для будущих легенд и песнопений, а по делу, вполне буднично, с интонацией: все в порядке, все идет должным образом.
АвторыОбщению с авторами редакторов нигде не учат, этой наукой овладевают «кустарно», на практике. Я уже почти полвека этим занимаюсь — как говорится, повышаю уровень.
Но первые уроки получил, когда начал работать в «Литература ной газете». Веду (так это называлось в газете) статью Маршака. Когда она была набрана, посылаю ему гранки. Потом иногда отвозил ему их сам, случалось, он даже читал при мне статью вслух, по поводу каких-то мелочей советовался, проверял себя.
В гранки Самуил Яковлевич вносил обычно минимальные поправки — полуфабрикат, не доведенные до должной кондиции материалы он никогда не предлагал. Выправленные гранки снова посылаю ему, он их опять внимательно вычитывает. Звонит: «Голубчик, обратите внимание, там не двоеточие, а точка с запятой, а там должны быть запятая и тире» и тому подобное. Звонит не раз и не два. Это меня раздражает, и я ему в тот раз сказал — правда, очень почтительно: «Не беспокойтесь, Самуил Яковлевич, это ведь такие пустяки». И тут он меня вежливо, но очень строго отчитывает: когда речь идет о литературе, пустяков не бывает, не должно быть.
Это был для меня очень важный урок. И своевременный. Незадолго до этого мне был преподан другой урок — газетного цинизма. В номере стоял отредактированный мною материал. Статья, как я ни старался, «середняцкая», как мы говорили тогда, а оттого, что я дважды по требованию секретариата — «полоса не резиновая» — ее сокращаю, она тоже лучше не становится. И когда ведущий номер зам. ответственного секретаря требует сократить еще двадцать строк, я взрываюсь:
— Это издевательство. Лучше снимайте материал!
Минут через десять меня вызывают к главному редактору. С некоторым трепетом — впервые он требует меня к себе, и разговор, как я понимаю, вряд ли будет для меня приятным, — отправляюсь в кабинет главного.
— Секретариат жалуется, что вы отказались сократить материал. Это не дело. Просьбы секретариата надо выполнять, — говорит, не повышая голоса, без раздражения Рюриков.
— Это невозможно, — пытаюсь объяснить. — Третий раз требуют сокращений. В статье живого места не осталось. И не могу я в третий раз звонить автору. Он меня пошлет и будет прав.
— А вы не звоните, — неожиданно для меня говорит Рюриков. — Завтра извинитесь, скажете, что было очень поздно и вы не решились его беспокоить. А сократить я вам помогу.
Он перечеркивает один, потом еще один абзац — небрежно, даже, как мне в тот момент кажется, не глядя (вернувшись к себе и посмотрев на выброшенные абзацы, я понял, что он их, конечно, заранее наметил, а весь этот маленький спектакль разыграл мне в назидание). И добавляет с едва заметной иронией:
— Запомните, нет такого материала, который нельзя было бы сократить. Даже если он написан очень почтенным автором.
И другой автор — полная противоположность Маршаку. Владимир Родионович Щербина — безотказный поставщик идеологического «железобетона». С годами этих поставщиков становилось все меньше и меньше. Когда приближались какие-то важные юбилеи, когда разворачивалась согласно указаниям со Старой площади очередная кампания идеологического укрепления, повышения, усиления, в редакции говорили: «Цена на Щербину идет вверх».
Зам. главного вручил мне рукопись статьи Щербины — полсотни страниц:
— Сделайте из этого подвал [для несведущих — в подвале 8–9 стандартных машинописных страниц. — Л. Л.].
— А как он к этому отнесется, ведь останутся рожки да ножки? — с некоторой тревогой спросил я.
И в ответ услышал:
— Нормально.
Когда я подготовил подвал (в редакции шутили: начав сокращать Щербину, очень трудно остановиться, легко, незаметно для себя, дойти до нуля) и он был набран, Владимир Родионович в редакции, даже не прочитав, а скорее просмотрев стоящую в полосе статью, сказал мне ошеломившую меня фразу:
— Верните мне, пожалуйста, остатки.
Я понял, что остатки не пропадут, будут отправлены в домашнюю «бетономешалку» и пойдут в дело к следующему юбилею.
И еще один тип автора — капризный, амбициозный, не желающий никого и ничего слушать.
Рассказывали (это было до того, как я начал работать в «Литературке»), что Мариэтта Сергеевна Шагинян, приехав однажды в газету, вдруг заявила, что не станет подниматься на четвертый этаж к главному редактору, пусть он спустится к ней. Почему это ей пришло в голову, никто не знал, — лифт работал. У Симонова хватило чувства юмора: он спустился вниз и разговаривал с ней у вешалки.
К Шагинян меня привели чрезвычайные обстоятельства. Неожиданно в самый последний момент — за несколько дней до открытия — была сдвинута дата съезда писателей. Естественно, что готовившийся к прежней дате номер был плотно забит посвященными съезду выступлениями. 150-летие со дня рождения Гоголя, которое пришлось на этот номер, отмечалось единственным материалом — статьей Б. Мейлаха, больше места не было.
Когда съездовские материалы полетели, стало ясно, что давать к гоголевскому юбилею всего одну статью неприлично, совершенно невозможно — это скандал. Срочно героическими усилиями добыли еще два материала: эссе Валентина Катаева и статью Мариэтты Шагинян «В творческой лаборатории Гоголя».
Однако в статье Шагинян было одно место, где ее рассуждения строились на явной ошибке, место это, чтобы не срамить автора и газету, — немедленно посыпались бы десятки писем, — надо было убрать.
Я поехал на Арбат, где тогда жила писательница. Не успел я рта раскрыть, как она, увидев отчеркнутое на полях карандашом место, стала на меня кричать. Она кричала, что не сократит ни одной строчки, ни одного слова. Она ругала последними словами газету, ругала меня: как смеют от нее требовать сокращений! Я не мог вставить ни одного слова. Это было как извержение вулкана и продолжалось довольно долго. Наконец, она выдохлась, и я получил возможность говорить. Она стала слушать, и я объяснил в чем дело.
Мариэтта Сергеевна перечитала отчеркнутое место и неожиданно для меня сказала, что я совершенно прав, что статья у нее не получилась и печатать ее она, конечно, не будет. Когда мне снова с большим трудом удалось вклиниться, я стал ее уговаривать, что статья хороша (нам она нужна была позарез), а от нее требуется совсем немного — сочинить вместо выброшенных абзацев две-три переходных фразы. Она же твердила свое: такую статью она печатать не будет. Потребовалось много сил и немало времени, чтобы уговорить ее. Затем очень быстро при мне она сделала все, что нужно.
Ушел я от нее в таком состоянии, словно целый день тяжелые мешки таскал.
ПосетителиВ пятидесятые и шестидесятые годы вход в большинство редакций газет и журналов был свободный — пропуск требовался, кажется, только в «Правде». В «Литературку» кто и с чем только ни приходил. И не всегда в отдел писем, а нередко и к нам, в отдел литературы.
Некоторых посетителей я запомнил — из-за странности дел, с которыми они являлись в редакцию. Дела были странными, но все-таки характерными для того времени, так сказать, вполне в его духе….
Молодой человек время от времени почему-то расплывается в улыбке. Я сначала решил, что он разыгрывает меня, но нет, он совершенно серьезно предлагает газете заняться весьма важной общественной проблемой:
— Недавно у меня умерла мамаша. Я ее хоронил. Плохо это дело у нас поставлено. Пора разработать новый похоронный обряд. Надо автобус радиофицировать и сочинить новый похоронный марш. Вместо молитвы — стихи, пусть поэты напишут. Советских людей ведь хороним…
Другой посетитель — в обтрепанном, грязном костюме, заросший, возбужденный, не говорит, а кричит. Трясущимися руками вытаскивает из хозяйственной кошелки две толстые папки. Выясняется, в одной — рукопись, в другой — отрицательные отзывы на нее, его переписка с разными учреждениями.