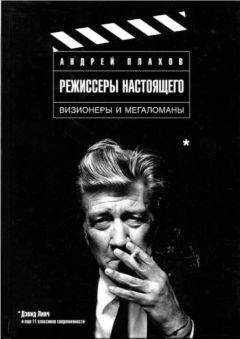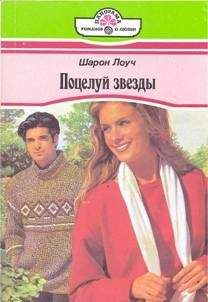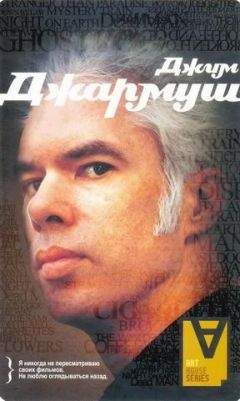Корней иванович - Критические рассказы
— «царство заблуждений»,
— «тьма житейских зол»,
— «злая сила тьмы»,
— «мимолетный дым»,
— «темница» и «пустыня»,–
и вообще для этого «здешнего мира» не нашел ни единого доброго слова. А самое слово «нездешний» было у него всегда похвалой, и когда он говорил «нездешние цветы», «нездешняя встреча», «нездешние страны», «нездешние сны», это значило: очень хорошие сны, очень хорошие страны…
Блок, как мы видели, усвоил себе то же ощущение, так что тема была у обоих поэтов одна: борьба этого здешнего с нездешним. Иной темы не знали ни тот, ни другой. И вообще в первых стихотворениях Блока Соловьев присутствовал на каждой странице: слова Соловьева, цитаты из Соловьева, эпиграфы из Соловьева. Даже имена, даваемые Блоком возлюбленной, были заимствованы им у Соловьева: Лучезарная, Таинственная, Вечная. Даже то ощущение лазури и золота, с которым Блок всегда сочетал ее образ, было ощущением Соловьева, потому что Соловьев постоянно, изображая ее, говорил: «Вдруг золотой лазурью все полно»… «Вся в лазури сегодня явилась»… «Пронизана лазурью золотистой»… «Лазурь кругом, лазурь в душе моей».
Но на этом сходство и кончается, — чисто внешнее и почти случайное сходство. Та, которую они так величали была для каждого из них — иная, и любили они ее оба по-разному.
Как любил ее Владимир Соловьев? Весь его роман с Лучезарной изложен им в поэме «Три свидания». Он увидел ее впервые девятилетним мальчиком, в церкви, в Москве, над алтарем, в синем кадильном дыме, за 20 лет до рождения Блока, в 1862 году; она явилась ему на мгновение и исчезла.
Прошло 13 лет. 31 мая 1875 года он, в качестве доцента Московского университета, был командирован за границу с ученою целью на один год и три месяца. Он отправился в Лондон для занятий в Британском Музее и через полгода с ним случилось такое, что не часто происходит с доцентами, командированными в Британский Музей — ему явилось ее лицо:
Вдруг золотой лазурью все полно;
И предо мной она сияет снова,
Одно ее лицо, оно одно.
Только лицо без тела. Он пожелал увидеть ее всю, и она повелела ему покинуть Лондон и отправиться в Египет, где обещала явиться опять. Доцент, командированный в Лондон для научных занятий в Британском Музее, тотчас же помчался в Египет, а оттуда (в элегантном лондонском цилиндре) в Сахару, где его чуть не убили бедуины.
«И вот повеяло: усни мой бедный друг. И я уснул; когда ж проснулся чутко — дышали розами земля и неба круг. И в пурпуре небесного блистанья очами, полными лазурного огня, глядела ты, как первое сиянье всемирного и творческого дня. Что есть, что было, что грядет вовеки, все обнял тут один недвижный взор, сияют надо мной моря и реки, и дальний лес, и выси снежных гор, все видел я и все одно лишь было, один лишь образ женской красоты, безмерное в его размер входило, передо мной, во мне одна лишь ты».
Сколько времени длилось видение, не знаем, так как времени не было. Время исчезло. Настоящее, прошедшее и будущее как бы слились воедино:
Что есть, что было, что грядет вовеки,
Все обнял тут один недвижный взор.
Человек приобщился вечности. «Прямо смотрю я из времени в вечность», — мог бы он сказать о себе. Едва он отрешился от юдоли, от грубой коры вещества, как цепь времени распалась для него, и он почувствовал себя победителем смерти. Не только время «погасло у него в уме», но и пространство. В пустыне он увидел всю вселенную:
Все видел я, и все одно лишь было.
Радостное приобщение к какой-то вневременной и вне-пространственной сущности, победа над пространством и временем — вот чем была дорога Соловьеву его Лучезарная Дева. После ее появления он уже не верил в иллюзию времени: «Царству времени все я не верю!», «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови».
Экстатические озарения Блока, связанные с образом Девы, были иного характера. Он не говорил ни о времени, ни о пространстве, а лишь о снах, туманах и молитвах. Его хаотически-дремотные чувства не вмещали таких четких категорий, как пространство и время. И вообще у Соловьева отношения к Деве были определительнее, проще и — интимнее. Соловьев, например, постоянно именовал ее своей подругой. «Подруга вечная!» — повторял он ей. — «Я вновь Таинственной Подруги услышал гаснущий призыв». — «Только имя одно Лучезарной Подруги угадаешь ли ты?»
Пусть она для него царица, но и он рядом с нею — царь.
Ты станешь сам, безбрежен и прекрасен,
Царем всего.—
говорил он, обращаясь к себе. А у Блока этой близости не было. Он и помыслить не смел о таком приятельстве с владычицей. Как мы видели, рядом с нею он чувствовал себя не царем, а рабом, и радовался своему уничижению. Во всем своем первом томе он только раз назвал ее Подругой, да и то это была случайная обмолвка, лютому что ни о какой дружбе между рабом и владычицей не могло быть и речи. А Соловьев ни разу не назвал себя ее рабом именно потому, что ощущал ее своей подругой. Тут величайшая разница. Один в пыли на коленях, к другой рядом, как равный, и даже порою — с улыбкой; какой юмористический тон у поэмы Соловьева «Три свидания»! Соловьев никогда не ощущал свою Лучезарную — строгой. Напротив, в этой поэме он даже смеялся вместе с нею, когда она смеялась над ним:
Смеюсь с тобой: богам и людям сродно
Смеяться бедам, раз они прошли.
А Блок постоянно твердил, что она суровая и строгая, и смеяться вместе с нею показалось бы ему фамильярностью. Вообще в его отношениях к ней было слишком много торжественности. Она всегда была ему чужая. А для Соловьева она была своя, добрая, нестрашная. Блок никогда не чувствовал ее доброты. Кажется, он перестал бы любить ее, если бы она стала добра. Ему нужно было любить — равнодушную.
Соловьев неизменно верил в свою Лучезарную, и, как верующий, исповедывал веру. У Блока же — не вера, а надежда, часто почти безнадежная. Оттого-то все его любовные мысли были о будущих свиданиях и встречах, а у Соловьева — о прошлых. Нигде у Соловьева нет этих Блоковских жду и приди. Различие между Соловьевым и Блоком есть различие между верой и надеждой. Блок в своей ранней поэзии был ожидающий любовник, а Соловьев был дождавшийся муж. Блок стремился, Соловьев достиг. Оттого у Соловьева и нет этого любовного напряжения, томления, всей этой музыки предчувствий и молений, которой была исполнена ранняя поэзия Блока. Оттого-то и мог Соловьев говорить о Прекрасной Даме в таких точных, определительных терминах, как египетский офит или средневековый схоласт, а Блок умел только молиться, гадать и любить.
Так что, если всмотреться внимательно, сходство между Соловьевым и Блоком лишь кажущееся.
VIИ есть еще одно различие, — огромное, — которое окончательно уничтожает легенду о влиянии Соловьева на Блока: Соловьев прославлял идеальную бесплотную женщину, а Блок — живую, которую видел и знал.
Соловьев считал величайшим грехом приписывать какой-нибудь женщине здешнего мира не свойственные ей небесные черты, а Блок поступал именно так.
Если вчитаться в его первую книгу внимательно, видишь, что это подлинная повесть о том, как один подросток столь восторженно влюбился в соседку, что создал из нее Лучезарную Деву, и весь окружающий ее деревенский пейзаж преобразил в неземные селенья. Это было то самое, что сделал Данте с дочерью соседа Портинари, а в наши дни Андрей Белый — с московской барыней Надеждой Зариной.[351] Соловьеву это было чуждо и враждебно.
Когда читаешь в первой книге Блока о красных лампадках в терему у царевны, о голубях, которые слетаются к ее узорчатой двери, о высокой горе, на которой стоит ее терем, и т. д., и т. д. — за всеми этими торжественными образами угадываешь знакомое русское: помещичью усадьбу на холме, голубятню, речку, церковку, молодой березняк.
Можно так расшифровать все самые выспренние образы «Стихов о Прекрасной Даме», что получится бытовая (и вполне реалистическая) повесть.
В том-то и было своеобразие поэзии Блока, что он, пользуясь криптографическим стилем, перевел весь тогдашний свой жизненный опыт из одной атмосферы в другую. Это было возможно лишь при том смутном, дремотном восприятии мира, которое сказалось в его ранних стихах. Поэт постоянно преображал окружающее, делал обыденное выспренним. Тут было его главное призвание с юности до конца его дней. Для Владимира Соловьева житейское было проклято раз навсегда и ни во что иное преобразиться не могло, а Блок во всех своих творениях, в «Незнакомке», «За гробом», «Над озером», в драме «Песня Судьбы», в поэме «Двенадцать» — всюду опять и опять преображал житейское в Иное. Он не только говорил о преображении мира, но преображал его творчески. Оттого-то его образы двойственны. Каждый из них — о двух бытиях.