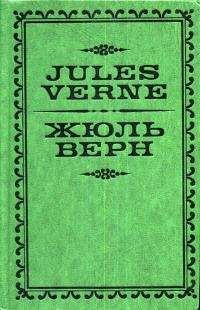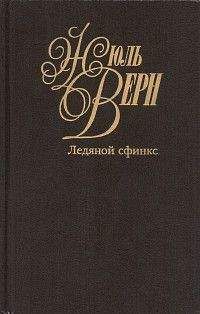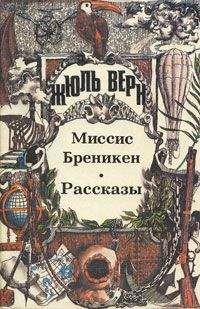Алла Латынина - Я играю в жизнь

Обзор книги Алла Латынина - Я играю в жизнь
Алла Латынина
Я играю в жизнь
За полтора года пребывания в Лефортовской тюрьме Эдуард Лимонов написал шесть книг, немалое количество статей и пьесу. Прямо Болдинская осень. Лимонову, впрочем, подобное сравнение не польстило бы: Пушкин для него безнадежно устаревший банальный “поэт для календарей”, “Евгений Онегин” — “убогонький вариант „Чайльд-Гарольда””, “пустая болтовня”, проза — обыкновенная дворянская продукция с гусарами и прочей “традиционщиной”. Так сказано в эссе о Пушкине, вошедшем в книгу “Священные монстры”. Если верить Лимонову (а почему бы ему не верить?), она написана в первые дни пребывания в следственном изоляторе Лефортова. “Я, помню, ходил по камере часами и повторял себе, дабы укрепить свой дух, имена Великих узников: Достоевский, Сад, Жан Жене, Сервантес, Достоевский, Сад... Звучали эти мои заклинания молитвой, так я повторял ежедневно, а по прошествии нескольких дней стал писать эту книгу”. (Книга до сих пор не опубликована, однако полный текст размещен на нескольких сайтах в Интернете, в частности: http://zona-sumerek.narod.ru)
Выбор “великих” чрезвычайно характерен. Самое ненавистное понятие для Лимонова — обыватель. А поскольку именно они составляют большинство населения планеты, то вместе с цветами к надгробию “священных монстров”, бросивших вызов заведенному порядку вещей, потребовался молоток, чтобы шарахнуть по возведенным обывателями памятникам. Досталось Толстому (“плоский и скучный, как русская равнина”), Булгакову (“Мастер и Маргарита” — “любимый шедевр российского обывателя”), Набокову (единственная его удача — “Лолита”). И даже Достоевский, “укреплявший” лефортовского узника, одобрен лишь частично, ибо работает на одном утомительном приеме ускорения, а своих героев “никогда не умел занять... героическим делом”. “Свыше ста страниц „Преступления и наказания” читать невозможно. Родион Раскольников так правдиво, так захватывающе прорубивший ударами топора не окно в Европу, но перегородку, отделяющую его от Великих, убедившийся, что он не тварь дрожащая, этот же Родион становится пошлым слезливым придурком... Великолепное... высокое преступление тонет в пошлости и покаянии”.
Вообще русская литература, по Лимонову, тяжеловесна, в ней мало “шампанских” гениев, но они есть. Среди них — Константин Леонтьев, в среднем европейце “сумевший увидеть настоящую и будущую опасность человеку от буржуа-обывателя”; Хлебников, “дервиш, святой юродивый”, умерший от голода в деревне, Николай Гумилев, в чьей поэзии “агрессивной жизни” и стоицизма Лимонов с радостью обнаруживает элемент протофашизма (вот перед кем надо было преклоняться молодому Бродскому и поэтам питерской школы, а не перед “вульгарной советской старухой Ахматовой”).
Большинство же “культовых личностей”, в которых есть “бешенство души, позволившее им дойти до логического конца своих судеб”, не принадлежит русской культуре. Их вызов обществу завораживает Лимонова. Ему интересен де Сад, создатель “вселенной насилия”, проведший жизнь в тюрьмах и умерший в Шарантонском приюте, Луи-Фердинанд Селин, “злобный правый анархист, ненавидящий интеллектуалов”, Жан Жене, беспризорник, вор, вытащенный Сартром за руку из тюрьмы, Пазолини, “убитый персонажем своего фильма и книги („Рогаццы”) на вонючем пляже”, “правый герой” Юкио Мисима, писатель-эстет, ставший политиком и сделавший себе харакири на глазах сподвижников, когда убедился в невозможности разбудить в войсках древний самурайский дух. Писателями и художниками список “священных монстров” не исчерпывается. Че Гевара и Ленин, Муссолини и Гитлер, правые и левые революционеры, сказавшие новое слово в истории, заставившие содрогнуться мир, — все они для Лимонова герои. Разумеется, свое имя Лимонов тоже видит в этом списке — и не где-нибудь в конце.
Тюрьма часто меняет человека. Не обязательно сгибает. Перелом мировоззрения, случившийся, например, с Достоевским в остроге, — это духовное восхождение личности. Исторический беллетрист Всеволод Сергеевич Соловьев, в юности встречавшийся с Достоевским, как курьез, странность гения вспоминает вырвавшееся у Достоевского пожелание своему молодому другу приобрести тюремный опыт. Однако не такой уж это курьез. “Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили”, — пишет Солженицын (“Бодался телёнок с дубом”).
Право рассуждать о полезности заключения для писателя, впрочем, можно признать лишь за теми, кто имеет собственный тюремный опыт. Но отметим все же, что те, кто его имеет, — за исключением разве что Шаламова, — очень часто этому страшному опыту благодарны.
Лимонов, человек действия, ценящий в личности способность к бунту, отрицанию, глубоко презирает религию и всякие там духовные искания. Зато (недаром столько размышлял о судьбах знаменитых узников) он прекрасно знает, как успешно тюремный опыт конвертируется в литературную славу. “Тюрьма дает право на величие. Я думаю, судьба меня особо отметила: в пошлый век без героев быть обвиненным в таких „преступлениях”, в которых и Разину с Пугачевым было бы не стыдно быть обвиненными”, — говорит Лимонов в диалоге с Александром Прохановым. “Ты остался позади, Иосиф, — обращается он к Бродскому в воображаемом диалоге. — Я тебя уделал в нашем соревновании. Тюрьма меня возвеличивает”; “Мне моя отсидка только прибавит звезд на погонах, а если еще умру в тюрьме, обеспечит бессмертие и культ. Я уже культовая фигура, статус мой теперь недосягаем”; “Время, проведенное мной в русской Бастилии, в Лефортове, будет всегда приводить в восторг моих биографов” (“В плену у мертвецов”); “Тюрьма и статус государственного преступника сделали меня „бесспорным”, „отлили в бронзе”” (“Книга воды”).
Порой думаешь, что те, кто борется за освобождение Лимонова, оказывают ему медвежью услугу. В особенности когда журналист начинает говорить, что Лимонов плохо выглядит, удручен, подавлен, и вообще — стыдно держать в тюрьме старого человека, никого не убившего, ничего не укравшего, по сомнительному обвинению в покупке автоматов. Да и разве способна его эксцентричная карликовая партия на что-то большее, чем закидывать помидорами и яйцами малосимпатичных персонажей? Все их акции — не более чем хеппенинги.
Во всех тюремных книгах Лимонов рисует себя несгибаемым узником Бастилии, политзаключенным, непримиримым революционером, энергичным, стремительным, молодым, свежим, мускулистым, он делает гимнастику по особой системе, он никогда не пропускает прогулок, его не может сломить стукач, пугающий ужасами общей камеры. Его любят юные свежие женщины — любая из них за счастье почтет прыгнуть в постель к седому неувядающему героическому красавцу. А тут вылезает молодой Сергей Шаргунов, пишет статью в защиту узника Лефортова и невзначай называет его седым стариком, — да можно ли задеть больнее?
Первые из опубликованных Лимоновым тюремных книг (изданные весной 2002 года) о самом заключении рассказывали мало. “Книга воды” (“Ad Marginem”, 2002) — это летучие фрагменты воспоминаний, шампуром для которых служит такая пластичная субстанция, как вода. Так как почти все книги Лимонова — это “главы его жизни”, как замечает он сам, в новой книге оказались перетасованными страницы предыдущих. Еще в рукописи она выдвигалась на премию “Национальный бестселлер”. Тогда Лимонова обошел друг и союзник по борьбе Александр Проханов с романом “Господин Гексоген”, зато Лимонову достался утешительный приз в виде премии Андрея Белого. Почти одновременно с “Книгой воды” в издательстве “Амфора” вышла “Моя политическая биография”. Мысль, что Лимонова занесло в политику случайно (весьма популярная среди тех, кто относится с симпатией к писателю, но не к его идеям), и раньше казалась мне нелепой. Сам Лимонов, кстати, упорно настаивает на том, что всегда был “социально-политическим автором”, лишь проясняя с годами свое видение мира. Однако и призрак собственно политической карьеры не раз ему являлся. В давнем лимоновском рассказе (“В сторону Леопольда”) пожилой парижский гей допытывается у героя, что он думает делать дальше. Не через час после обеда в ресторане, а вообще в жизни. “В ближайшие несколько лет я не собираюсь совершать никаких революций в моей жизни. Буду писать книги и публиковать их, становиться все более известным”, — серьезно отвечает герой. “Ну а потом?” — “Когда ты очень известен, можно употребить известность на что хочешь. Можно пойти в политику, основать религию или партию...” (“Кончался октябрь 1983 года” — такова последняя фраза рассказа).
Религию Лимонов пока не основал, а вот партию, как к ней ни относись, — создал. Однако повествование о первых шагах писателя на родине, о партстроительстве, союзниках, противниках, съездах НБП, их акциях и расколах внутри партии — на редкость монотонно на фоне других — взрывных, шокирующих книг Лимонова. Кончается оно сценой ареста — писателя везут в Лефортово, обыскивают, осматривают и под конец открывают железную дверь камеры. “В камере были три металлические кровати, окрашенные синей краской. Я положил на одну из них матрас и сел. Сцена из классического романа”.