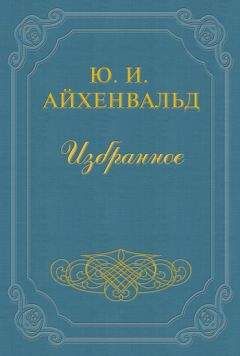Юлий Айхенвальд - Алексей Толстой
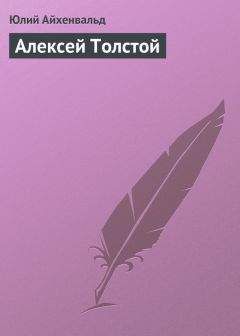
Обзор книги Юлий Айхенвальд - Алексей Толстой
Юлий Исаевич Айхенвальд
Алексей Толстой
Алексей Толстой, как Иоанн Дамаскин, герой его поэмы, был, несомненно, искренний иконодул искусства, и наиболее ненавистны и непонятны были для него иконокласты, «икон истребители», самодовольные в своей материалистической трезвости. Он не считал песнопения грехом, не видел в нем «прелести». Без икон красоты, без этого красного угла эстетики, не мила ему была самая храмина жизни. Там, где беззвучно, где нет песни, – там для него небо не защита, не свод, а тягость и оно «усталую землю гнетет». Он верил в предсуществование искусства. Мир предстоял ему как художественное произведение, которое чуткие поэты и музыканты выявляют, подобно тому как «над пламенем грамоты тайной бесцветные строки вдруг выступают». Мир талантлив. Он звучит музыкой, переливается красками, в нем реют слова, и это он нашептывает темы для земных творцов. Когда Бетховен слагал свой марш похоронный, он не из себя брал «этот ряд раздирающих сердце аккордов, плач неутешной души над погибшей великою мыслью, рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса», —
Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве.
Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданья.
Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова и света.
Если так, то в искусстве – истина, и красота не украшение, а сама сущность бытия, его имманентная природа; если так, икона, образ – это благодатная необходимость, которой всякий раз и поклоняется «наш мир удивленный». Толстой больше всего привлекателен этой способностью удивления перед мировой и человеческой иконой, в особенности если она – старинная, издавна чтимая, если она напоминает изысканные, выцветшие тона гобелена, как прекрасные терцины его «Дракона».
Но он как-то слишком помнил о себе, что был певцом, «державшим стяг во имя красоты», говорил это не раз и, главное, сам был иконописец не из первых и великих. Скоро замечаешь рамки его ограниченного дарования; часто его стихи отравлены вялой прозой и рассудочностью; еще чаще он выступает как поэт эффекта, как любитель бенгальских огней. Он не мастер, не учитель – он редко подымается над уровнем ученика. Ближе ему отзвуки, чем звуки, и больше следует он за чужим вдохновением. Какой-то посредник стоит упорно между ним и самою поэзией и делает из его произведений нечто воспроизведенное. Алексей Толстой вторичен. И большинство его страниц, там особенно, где он не отдается лирике, написаны на тему.
Именно потому, что он не отличается такою силой поэтического порыва, которая претворяла бы в одно слиянное, нераздельное целое, в одну пушкинскую гармонию, «все мира явления, вблизи и вдали», – он слишком отчетливо, или, употребляя его любимое выражение, слишком «отчетисто», видит внешнюю историческую межу, которая отделяет близкое от далекого, настоящее от прошлого, Россию от Руси. Для него важное и первенствующее значение приобрели несущественные мерила времен и пространств, и он из древности сделал особую икону, – нет, даже часто делал из нее лубок. Он вообще более обращен к старому, чем к становящемуся. Но в поэзии тот лишь может быть археологом, кто не имеет глубины и синтеза, кто жизнь мира не усвоил себе как вечное настоящее и вечную близость. Историзм не философичен. Интерес к наружному, даже к человеческой одежде, ко всем этим людям, облаченным в корзно, в мурмолку червленую, весь этот маскарад национализма, на котором так долго пребывал Толстой, является лишь показателем его нецельности, изобличает в нем отсутствие художественного обобщения. Пусть любовно воспринимал он старину и радостно окунался в студеные волны самобытной русской речи, пусть восхищается он тем, как от перезвона соборных колоколов «Москва превратилась в необъятную гармонику», – но ему не удалось изо всего этого сделать нечто такое, что было бы серьезно и возвышалось бы над простою бутафорией. Он сам с удовольствием присутствует на пиру Грозного в «Князе Серебряном»; он тешит себя древними игрушками. Про него хорошо сказал Чехов, что он нарядился в оперный костюм, да так и забыл снять его по выходе из театра. Получилась явная искусственность и поверхностная стилизация, и Толстой не сумел даже выдержать старинного стиля, который он себе приобрел, но которого не связал органически со своей душою; «из былинного тона он выпал давно», и часто в его гуслярный звон диссонансом врывается какое-нибудь современное слово или оборот; или он, и всерьез, и в шутку, слишком новые, сегодняшние мысли облекает в старые, церковно-славянские речения. Но главное крушение, которое потерпел в своей идеализации русского быта наш поэт-реставратор, заключается в том, что от его звонких страниц не веет именно русским. Он упустил из виду, что родное, доведенное до краев, утрированное, производит впечатление чужого. Националист похож на иноземца: так Немезида мировой целостности карает за исключительность. К счастью только, Толстой археологии не сделал почтенной, – его спас существенный для него юмор, который нередко и вносит свое живое дыхание в отжившие речи и картины. Во многих отношениях церковно-славянский, наш писатель умеет, однако, воскликнуть устами корсунцев:
Настала как есть христианам беда:
Приехал Владимир креститься!..
И он же в прекрасных по своей строгости и силе строфах от лица бывших поклонников Ругевита рассказывает, как отказались они от своего «дубового бога». Вообще, он поклонялся только тому богу, в котором не было мертвенности; он исполнен был духа свободы, ею дорожил, и хотя в нем силен был боярин и ему казалось, что самые звезды говорили Грозному: не бывать на земле безбоярщине, – но это совсем не делало его гасителем духа, не убивало в нем рыцаря, и для него не фразой только, а глубоким убеждением было, что «над вольной мыслью Богу неугодны насилие и гнет». Он был благороден.
Частный момент старинного или русского, взятый в своей обособленности, не углубленный до какой-нибудь общей категории существования, сказывается и в том, что Толстой легко совершает переход от природы к истории и даже от природы к политике. Малороссия – это для него тот край, где все обильем дышит, где реки льются чище серебра – и где с Русью бились ляхи, где пролито много крови славной в честь древних прав и веры православной. Он начинает с этого прелестного привета:
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая? —
но сейчас же оказывается, что это – аллегория, что он имеет в виду не цветы, а царства, что мчится он на коне славянском, и туда, где «ковшей славянских звук немцам не по сердцу». И потому в его трагедиях тоже больше истории, чем психологии; временные события не показаны в своем вечном смысле и общечеловеческой значительности. Страницы русской летописи под рукою Толстого не стали всеобщими.
Дробность вдохновения, отсутствие душевного синтеза, внутренняя нецельность характерно проявляются и в других сторонах его поэзии. Прежде всего, он сам сознавал эту свою частичность, но только считал ее не своим личным недостатком, а уделом всех людей, и если прислушаться к его стихам, то станет явственной их основная нота: несмолкающая жалоба на то, что мы не можем объединить «отдельно взятые черты всецельно дышащей природы», что «любим мы любовью раздробленной и ничего мы вместе не сольем», что «всесторонность бытия» и «неисчерпаемость явленья» далеки от нас, фатально односторонних. Божество «едино, цельно, неделимо», а мы тоскуем по общности, мы хотели бы слить в созвучие враждующие звуки, собрать в один фокус, в одно человеческое солнце и сердце, все разрозненные лучи существования, – но это будет нам дано лишь в последний час: только смерть, собирательница, приведет к единству, только она возьмет заключительный аккорд на рассеянных струнах жизни. Толстого удручает раздробленность нашей любви, ее трагическое «порознь», вечная неслиянность человека с человеком и с самим собою. Единство, как идеал, восполняет в мечтах нашего поэта ту множественность, которую он чувствует в себе непосредственно и которой тяготится, в жажде целостности: «согласить я силюсь, что несогласимо».
Он знает, что Господь не сотворил его непреклонным и суровым, не дал ему законченности; но здесь и прекращается его сознание – дальше идет уже та его незаконченность, которую видят лишь его читатели, та невыявленность и невыясненность «сонной души», та зыбь ее, которая незаметна для самого художника. У него бывают приливы души, но ему как будто больше, чем другим, за приливы надо платить отливами. Ему сродни и шумящее и спокойное море. Он не целый поэт; не весь, не сплошь он поэт. Толстой сам говорит в одном стихотворении, что в глубине его сердца таится много непетых песен, что из этой глубины идет шепчущий голос как ропот струй, – но заглушается шепот сердца шумом жизни, подобным вихрю, ломающему бор. Так боролись в нем два шума и отнимали у него полноту поэтичности. Можно убедиться в этом даже на том внешнем, но серьезном факте, что в своих лирических стихотворениях он злоупотребляет сравнениями, плодом рассудочности. У него – неприятная законченность сравнений, он слишком заботливо и тщательно подыскивает параллели, и, когда найдет последнюю черту сходства между физическим и духовным, между явлением сердца и явлением природы, когда, по своему обыкновению, привяжет свою эмоцию к какой-нибудь внешней идее, тогда, довольный этой налаженной симметрией, он успокаивается и ставит точку. Например, разве непосредственно, а не умно только следующее сравнение: