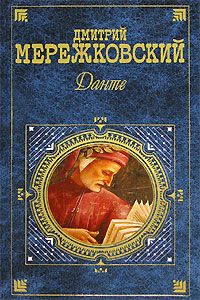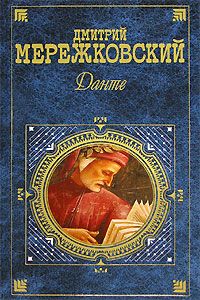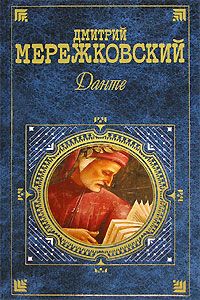Василий Розанов - О Мережковском

Обзор книги Василий Розанов - О Мережковском
В. В. Розанов
О Мережковском
I
Д. Мережковский. Любовь сильнее смерти. Итальянская новелла XV века
Книгоиздательство «Скорпион». Москва, 1902
Книжка содержит больше, чем обещает заглавие. Сверх заглавной новеллы, в нее входит другая такая же: «Наука любви», далее — хроника XVI века «Микель-Анджело» и «Святой Сатир», флорентийская легенда Анатоля Франса, с мастерством переданная на русский язык автором классического перевода «Дафниса и Хлои». Уже с давнего времени г. Мережковский насаждает в России маленькие сады Адониса, или, что то же, пытается пробудить какой возможно «Renaissance» эллино-римского мира среди степей Московии и Скифии. Одно можно отметить, что чем старше становится автор, тем спокойнее, увереннее, а главное — сложнее он работает, перестав, например, относится к христианству с той поверхностною отрицательностью и глумлением, какие неприятно поражали читателя в его «Юлиане Отступнике». Нельзя и сравнивать стиль или слог его теперешних писаний, ровный и твердый, с тем нервно-приподнятым, бессильно надтреснутым стилем, каким написаны многие из его страниц начала девяностых годов.
Мальчик вырастает в мужа, из «Амура» вылупился «Адонис», и это совершилось так удачно и быстро, что друзьям автора можно помечтать даже о будущем Геркулесе из него. Да поможет ему древняя Люцина, помощница в родах. Возраст — великий умудритель. Ни из какой книги не научишься тому, чему можно учиться из горба за спиною, т. е. из усталости, опыта, богатства наблюдений. Все это расхолаживает и вместе укрепляет, дает правильную поступь, верный глаз: ценнейшие качества в наше немолодое время, которое бесконечно скучает всем юным в смысле неопытности и лжеприподнятости страстей и языка. Серьезная правда все более и более выделяется из многочисленных «лже» г. Мережковского, из «лже»-эллинизма, «лже»-ницшеанства, «лже»-антихристианства: и все начинают серьезнее и серьезнее слушать речь просто Мережковского, самого Мережковского. Просто Мережковский несравненно любопытнее Ницше — Мережковского, который довольно долго утомлял русскую публику. Теперь он находит в себе мудрые слова о христианстве; он находит подлинно уязвимые слабости в Ницше, например, указывая в первом «сверхчеловеке» потомка слабохарактерных и крикливых «ляхов», который пуще всего рвется к тому именно, чего ему усиленно недостает… Увы, все чахоточные любят весну и розы. Но ошибется тот смертный, который доверит повести себя к розам и соловьям чахоточному…
Мережковский — мыслитель, наблюдатель и ученый. Он вечно учится, постоянно и много читает. Это не часто встречается в наш ленивый век, и уже одним усердием к делу г. Мережковский скоро перерастет множество самодовольных «талантов» из своих современников, которые думают, что подлиному таланту остается только сочинять chefs d'oeuvres'ы. Ценнейшая и самая обещающая сторона в сложном даровании г. Мережковского, мне кажется, лежит в умении увидеть и точно оценить значение такого-то слова или факта в литературе и истории: оценить их со стороны психологической и метафизической. Нет еще такого чуткого манометра в нашей литературе, определяющего удельный вес мнений и событий; такого подвижно чуткого компаса, определяющего направления скрытых в земле магнитных токов. От излишества внутреннего напряжения он способен здесь к ошибкам, на которых не будет настаивать; но затем может раньше всякого другого дать формулу незаметному, предречь поражение сейчас еще сильного явления или победу еще слабого явления. Роль Кассандры ему в высшей степени присуща…
В рассматриваемой книжке самым лучшим произведением нам показалась историческая повесть «Микель-Анджело», предшествуемая стихотворением того же имени. Италию и Renaissance автор изучил, как Забелин московские закоулки; и студент, и студентка, размышляющий гимназист, как и самый образованный человек, неспециалист, равно приобретут много, если изберут г. Мережковского «гидом» по интереснейшей стране и интереснейшей эпохе. К тому же это не гид-археолог, а гид-мыслитель, и в самой Италии и Renaissance он берет не все, что на глаза попадется, а ищет то, что нужно, справедливо чуя, что нет великого без великих под ним тайн, и что секрет распознавания истории и человека и заключается в разыскивании этих тайн… Древние верили, что где-то, в Сицилии или другом месте, есть «спуск в тартар»; вот около таких исторических и биографических «спусков» любит бродить и Мережковский, и догадливый читатель найдет в его произведениях гораздо более, чем недогадливый (например, стр. 116–117). Леонардо да Винчи и Микель-Анджело, творцы-философы, творцы-исполины, более всего привлекают его внимание. Рассказ г. Мережковского (стр. 59 — 148) о Микель-Анджело в сжатой и изящной форме полуистории, полубеллетристики, вводят в жизнь, творчество, замыслы и судьбу знаменитого флорентинца, любимца итальянцев, как я наблюдал в Италии в церквах, в монастырях, в любовных воздвижениях ему статуй и набожном охранении (я видел в одном монастыре) какой-нибудь простой (но действительно изящной) перекладинки двух-трех железных прутьев над колодцем. «Это сделано Микель-Анджело». И в самом деле — что-то красивое, воздушное. Так обрывки стихотворений Лермонтова, неконченые, ценнее целых «задуманных, выполненных и благополучно оконченных» поэм других стихотворцев. В таланте содержится некоторое чудо, и этим чудом богат флорентинец, действительно, точно украсивший Италию всюду разбросанными им скульптурами, зданиями и картинами. «Моисей», Сикстинская капелла (вся в целом) и купол св. Петра — просто невероятно, чтобы это вышло из рук одного человека. Кто может представить соединенными в одной фигуре, в одной душе — Толстого, Чайковского и Менделеева? А таковыми-то и были кентавры Возрождения, «боги» Возрождения, к которым применимо удивительное изречение греков о Пифагоре: «вот пришел к нам „οΰτε Πδοαγορας“. „Οΰτε άνδρωποι άλλά“ [„Ни Бог, ни человек, но Пифагор“. „И не человеки, но Боги“ (греч.)] были и люди „Возрождении“, — точно выкованные из сплава христианства и язычества, металла нового и превосходного крепостью и красотой своих ингредиентов….
Мало у нас писателей, столь умственно возбужденных, как г. Мережковский, вечно ищущий, надеющийся, идущий вперед. И мы бы особенно хотели, чтобы в наше вообще умственно-возбужденное время он стал другом-мыслителем нашей мыслящей молодежи обоих полов. Приведем, в заключение, несколько строф автора, характеризующих Микель-Анджело:
За миром мир ты создавал, как Бог,
Мучительными снами удрученный,
Нетерпелив, угрюм и одинок.
Но в исполинских глыбах изваяний,
Подобных бреду, ты всю жизнь не мог
Осуществить чудовищных мечтаний,
И, красоту безмерную любя,
Порой не успевал кончать созданий.
Упорный камень молотом дробя,
Испытывал лишь ярость, утоленья
Не знал вовек, — и были у тебя
Отчаянью подобны вдохновенья:
Ты вечно невозможного хотел.
Являют нам могучие творенья
Страданий человеческих предел.
Не правда ли: это полно, точно и психологично. Книжка издана новою московскою книгоиздательскою фирмою „Скорпион“ очень изящно, с прелестною виньеткою.
II
Письмо в редакцию
<О Д.С. Мережковском>
В N 11 от 12 января «С.-Петерб. Ведомостей» некто г. К. Румынский подвергает г. Мережковского упреку в том, что он, будто бы желая «сильных ощущений, криков пытаемых, вида крови, запаха сжигаемого человеческого мяса» и т. п., «принял позу блюстителя чистоты веры», стал разыскивать в литературе «еретиков» и прежде других указал на меня. Так как подобная инсинуация, накидывая очень густую тень на г. Мережковского, при моем молчании могла бы вызвать подозрения, что и я согласно с инсинуациею считаю себя, так сказать, духовно теснимым со стороны Д.С. Мережковского, то для предупреждения подобного мнения и снятия с моего друга всякого заподозревания его в «великом инквизиторстве» (слова г. К. Румынского), я должен сказать, что обвиняемое место его книги «Гр. Л, Толстой и Достоевский» (т. 2, стр. XXXIV) предварительно напечатания было мне показано редактором «Мира Искусства», с предложением, не буду ли я иметь что-либо против этих слов, каковые при моем желании и он (редактор) и Д.С. Мережковский готовы выпустить. Но я по разным соображениям просил его оставить, находя вполне основательным и ни мало для меня не опасным утверждение, что строй моих мыслей для их опровержения потребует со временем еще большего напряжения мысли со стороны гг. богословов, чем строй мысли гр. Л.Н. Толстого. Нужно заметить, «строй мысли» гр. Толстого, начиная с «Крейцеровой сонаты», представляет собою лишь решительную и всеобще приложенную (к миру) форму монашества, — и с этой стороны едва ли представляет что-либо, нуждающееся в опровержении для богословов. Совершенно противоположна моя точка зрения, и она может представлять трудности для богословия. Затем лично с Д.С. Мережковским я об этом месте его книги никогда не говорил и удивляюсь, что он «хочет моего жареного мяса» (кровавое утверждение г. К. Румынского), когда каждое воскресенье он мирно пьет чай за моим столом. Фантазия г. К. Румынского смешна, но худо, что к смеху он присоединил злой умысел замарать совершенно чистого в литературном отношении человека.