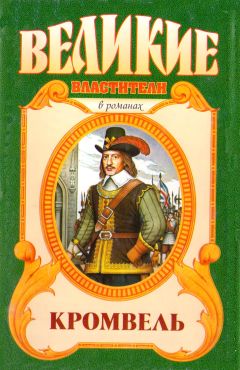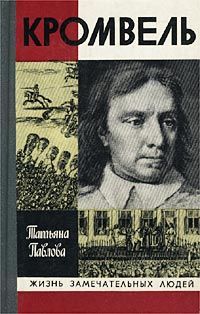Иван Стаднюк - Исповедь сталиниста
Ну, а вопрос пани Н. Осыньской: «Неужели и сейчас возможны такие оборотни, как Гоголь?!» — это никак не умственная кокетливость и словесное щегольство, а «жемчужина» ее эпистолярного творчества. Назвать великого Гоголя, чьи произведения стали духовным достоянием всего просвещенного мира, оборотнем, это кощунство. Мне бы тысячную толику его художнической силы!..
Фраза: «Неужели и сейчас возможные ТАКИЕ оборотни…» удерживала меня от того, чтоб прочитать письмо кому-либо из своих друзей. Ведь эта фраза давала хороший повод для зубоскальства. Да и меня самого веселила она глобальностью несоответствия в сопоставлении.
Но надо было что-то ответить уважаемой пани Осыньской. И я все-таки решил посоветоваться с друзьями. Когда однажды в «огоньковском» кабинете Анатолия Софронова собрались по какому-то поводу Евгений Поповкин, Аркадий Первенцев, Борис Иванов, Николай Кружков, я дерзнул: попросил Поповкина, знавшего украинский, прочитать адресованное мне из Бруклина письмо. Как я и предполагал, фразы о Гоголе, как «оборотне», вызвали хохот. Но в целом к письму отнеслись с вниманием, а ко мне даже с сочувствием. Когда же я сказал, что размышляю над ответом, Софронов напомнил, что личные письма за рубеж подвергаются цензуре и, поскольку я еще и «номенклатурный работник», не лишне будет посоветоваться с заведующим сектором агитпропа ЦК, который главенствует над журналами, Иваном Петровичем Кириченко. Мое ответное письмо должно быть весьма дипломатичным: его наверняка напечатают в той же американской газете «Свобода».
Иван Петрович Кириченко — коренастый, чернобровый сибиряк с чистым, чуть румяным и улыбчивым лицом, подкупал своей открытостью, прямотой, четкостью суждений. У меня сложились с ним дружеские отношения с самого начала моей работы в «Огоньке». И сейчас будто вижу его доброжелательно-внимательный взгляд и слышу первые вопросы, когда заходил к нему в кабинет в здании на Старой площади: «Что нового?» — «Как дела?» — «В редакции спокойно?..»
Кириченко не любил предполагать, предпочитая знать точку зрения собеседника на тот или иной предмет. В разговоре с ним требовалась только истина. Притворство, неопределенные ответы, дипломатничанье он угадывал немедленно и становился хмурым, неприветливым. Я однажды испытал это на себе, уклонившись от оценки одной приключенческой повести, которая с продолжением печаталась в нескольких номерах «Огонька» при моем негативном отношении к ней. Ивану Петровичу откуда-то стало известно, что я резко высказался на редакционной летучке о состоявшейся публикации.
— А мне доложили, что вы ломали ребра этой повести, — резковато заметил Кириченко. — Надо было настойчивее добиваться ее отклонения.
— Я один перед большинством редколлегии бессилен. Да и автор больно именитый.
— Именитость автора и литературный уровень его конкретного произведения — вещи разные! — энергично и уверенно вразумлял Иван Петрович. — И уж если ваша точка зрения не получила поддержки в редакции, вы все рано не должны отказываться от нее, тем более в ЦК.
Наши оценки иных литературных новинок не всегда совпадали, и это обостряло обоюдный интерес к нашим размышлениям вслух, к доказательствам без фразерства. Мне нравилось, что Иван Петрович противопоставлял отвлеченным суждениям конкретные понятия, не преднамеренно демонстрируя свое университетское образование. Учитывая все это, я решил, прежде чем идти в ЦК с полученным мной письмом из США, написать на него ответ — чтоб была конкретность в дискуссии, если таковую навяжет Кириченко.
Предлагаю вниманию читателей мое письмо в Бруклин госпоже Н. Осыньской в несколько сокращенном виде:
Добрый день, далекая землячка!
Адресую эти строки Вам и членам Украинского клуба в Бруклине.
Ваше письмо меня взволновало и обидело. Но постараюсь ответить спокойно. Полагаю, что Вы хороший человек и обидели меня нечаянно, приняв во внимание маловразумительный ответ поэта В. Коротича на Ваш вопрос обо мне, а главное, что Вы имеете очень смутное представление о жизни нашей великой многонациональной страны.
Конечно же нелепо и необъяснимо, если человек вскормлен и вспоен украинской землей, знает родной язык, поднялся как художник слова среди своего народа, и вдруг начинает писать не на родном языке, а на родной его переводят уже другие литераторы…
Но все это ни в какой мере не относится ко мне. И прошу не воспринять мой ответ как попытку оправдаться. Оправдываются виноватые, а я ни в чем не виноват перед родной Украиной, хотя живет в моем сердце боль оттого, что время от времени приходится вот так объясняться.
Кратко о себе. В 1939 году, после окончания украинской десятилетки, я ушел в армию и, став офицером, прослужил в ней двадцать лет (в том числе война: от первого и до последнего дня — на фронте) В армии стал журналистом и до увольнения в запас работал в военной печати. В нашей армии употребляется при исполнении служебных обязанностей только один язык русский. И, естественно, двадцатилетняя журналистская работа, писание на русском языке, учеба в русских вузах, привели к тому, что я стал хорошо знать русский литературный язык, а знание украинского обогатить не сумел. Тем более что родился я на Подолии, в селе, языковые особенности которого несколько своеобразны.
На этом можно было бы и закончить свое письмо. Но мне хочется чуть пространнее поразмышлять вокруг поставленных Вами вопросов.
Роман «Люди не ангелы» считаю своим пока что главным писательским прозрением, хотя и не сбрасываю со счетов свои военные произведения. Роман о деревне родился для меня неожиданно, как взрыв, как созревшая потребность рассказать о том, что видел и пережил в детстве и юности. Первую книгу романа писал в 1960 — 1962 годах. Конечно же с запасом украинских слов, которым обладал хлопчик из подольского села, я ничего серьезного не написал бы. В моем представлении писатель — это звучащая человеческая совесть, выражающая боль и радость, любовь и ненависть, все то сложное, трудно передаваемое, что складывается из взволнованной мысли и ощущений сердца. И хотя человеческие чувства, людская совесть не укладываются в языковые рамки, все-таки они неотделимы от мысли, основную плоть которой составляет язык.
Итак, мысль и слово… Жизнь моя сложилась таким образом, что они в философском и художественном значении зазвучали во мне по-русски и не хватило у меня сил, а может, и мужества преобразить и обновить языковую основу своего внутреннего мира. А двух жизней, к сожалению, никому судьбой не уготовано.
Далее. Я не знаю, по какому поводу писала Ваша газета «Свобода» обо мне как заместителе главного редактора журнала «Огонек». Но меня очень поразил своей неожиданностью ход Вашей мысли. Вы полагаете, что «меня подкупили таким высоким положением».