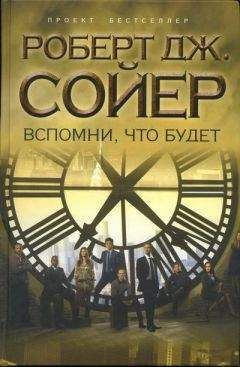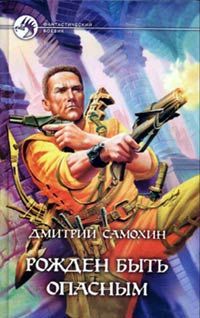Семен Резник - Мечников
Мечников пообещал прислать ему «Этюды оптимизма», где «Фаусту» и Гёте посвящена отдельная глава.
В наступивших уже поздних сумерках Гольденвейзер сел к роялю. Оказалось, что музыкальные вкусы хозяина и гостя почти совпадают. Оба любили Моцарта, Гайдна, Шопена. Оба не выносили новую музыку (Мечников сказал, что пришел в ужас, когда ему в Петербурге играли Скрябина). Правда, он любил Бетховена, а Толстому Бетховен казался слишком усложненным.
Все было пристойно и вежливо. Хозяин и гость всячески подчеркивали, что получают удовольствие от общения друг с другом. Только раз, когда они на какую-то минуту остались в кабинете Толстого одни, Лев Николаевич снял с лица маску любезности, пристально (как пишет Мечников, но, может быть, опять пронизывающе?) посмотрел гостю в глаза и спросил:
— Скажите мне, зачем вы, в сущности, приехали сюда?
Мечников признается, что смутился, да и кто бы не смутился на его месте!
Прощались сердечно.
Долго жали друг другу руки. Мечников уверял, что пережил один из лучших дней своей жизни и что его жена, хотя он еще не говорил с ней об этом, испытывает такое же чувство.
— Я знал, что свидание будет приятно, но не думал, что настолько, — отвечал Толстой и предложил изредка переписываться.
— Постараюсь прожить сто лет, чтобы вам доставить удовольствие, — добавил он, смеясь.
И опять серьезно:
— Не прощайте, а до свидания.
А когда экипаж, в который уселись гости, уже покатил вниз по «прешпекту», они вдруг услышали, что их окликают… Толстой стоял на балконе, махал обеими руками и кричал вдогонку:
— До свидания… до свидания…
На станции Мечникова опять увидел корреспондент «Раннего утра» Д. Н. Было уже больше одиннадцати. «Вся фигура И. И. была, так сказать, полна глубокой думы». Мечников протянул деньги кассиру и ушел на платформу; станционный сторож не сразу разыскал его в темноте, чтобы вручить билеты. «Характерный штрих», — замечает по этому поводу Д. Н., и действительно: столь свойственной ученым рассеянностью Мечников не особенно отличался.
На вопрос корреспондента о Толстом он сказал примерно то же, что говорил самому Толстому при прощании…
А на следующий день (Мечников провел его в Москве в кругу друзей — нигде не появлялся и никого не принимал, вечером же укатил в Париж), когда в Ясную Поляну приехал корреспондент «Русских ведомостей» С. Спиро, Толстой повторил ему то, что говорил при прощании Мечникову: «Я от этого свидания получил гораздо больше всего того хорошего, чего ожидал».
Еще он сказал: «Я не встретил в нем обычной черты узости специалистов, ученых людей. Напротив, широкий интерес ко всему и в особенности к эстетическим сторонам жизни». «Я был поражен его энергией: несмотря на ночь, проведенную в вагоне, он так был оживлен и бодр, что представлял прекрасное доказательство верности его гигиенического, отчасти даже нравственно-гигиенического режима, в котором, по-моему, важное значение имеет то, что он не пьет, не курит и ни в какие игры не играет».
Это интервью позднее было включено в приложение к сборнику воспоминаний Мечникова. По мысли составителя, оно, очевидно, передавало истинное отношение Толстого к гостю. Маковицкий, однако, записал 31 мая: «Л. Н. сказал: в дневник, как всегда, записал откровенно, как мне тяжело было говорить с Спиро».
В дневнике же читаем:
«Меч[ников] оказался оч[ень] легкомысленный[45] человек — арелигиозный. Я нарочно выбрал время, чтобы поговорить с ним один на один о науке и религии. О науке ничего, кроме веры в то состояние науки, оправдания к[оторо]го я требовал. О религии умолчание, очевидно, отрицание того, что считается религией, и непонимание и нежелание понять того, что такое религия. Нет внутренне[го] определения ни того, ни другого, ни науки, ни религии. Старая эстетич[ность] Гегелевско-Гётевско-Тургеневская. И оч[ень] болтлив. Я давал ему говорить и рад оч[ень], ч[то] не мешал ему. Как всегда, к вечеру стало тяжело от болтовни. Гольд[енвейзер] прекрасно играл».
4В ответ на присланные Мечниковым книги — о Конго Эдуарда Фоа и «Этюды оптимизма» — Толстой написал:
«Уважаемый Илья Ильич,
Простите, пожалуйста, что долго не отвечал вам. Благодарю вас за ваше письмо и книги. Только поверхностно просмотрел их. Очень бы желал чем-нибудь со своей стороны быть вам полезным. Пожалуйста, если вам что-нибудь нужно будет в России, что я могу исполнить, не обойдите меня.
Дружески жму вам руку. Прошу передать мой привет вашей жене.
Лев Толстой.
27 июля 1909».
Вот так! Книги получил, благодарю за них покорно, но в долгу оставаться не хочу, так что рад буду, со своей стороны, услужить; привет супруге…
Продолжения переписки не последовало.
Ну а «Этюды оптимизма» Толстой, конечно, не «поверхностно просмотрел»; он «два дня читал понемногу Мечникова книгу и ужасался на его легкомыслие и прямо глупость». Он хотел написать Мечникову «не доброе», потом решил, что если напишет, то «любовно», но в конце концов ограничился приведенными строчками.
Мечников считал, что не подал повода для этой подчеркнутой сухости, и после выхода в свет записок Гусева опять пустил в ход свой ключ. У Гусева он прочитал:
«Вчера Л. Н. получил от Мечникова его книгу „Essais optimistes“. Прочитав из нее главу о морали, он сказал: „Это — та же самоуверенность, что у теперешней молодежи. Всех разносить. Старики никуда не годятся. Не то чтобы признавать в них известные недостатки, а ничего в них нет хорошего“».
«Я объясняю себе возмущение Толстого по поводу моей статьи о нравственности, — писал Мечников, — его чрезвычайной, сохранившейся до конца дней, почти болезненной впечатлительностью. Несмотря на то, что я развивал вопрос о противниках вивисекций на животных совершенно спокойно, но мое отрицательное отношение к ним, вероятно, очень задело чувствительную струну великого писателя, как и все то, что я говорил о вреде чересчур усиленного преобладания чувства над рассудком».
Однако ни Гусев, ни сам Толстой ни слова не говорят о вивисекциях. И пометки Толстого — их всего две — относятся к тому месту, где Мечников утверждает, что наука уже так много принесла людям пользы, что вера в нее — это не слепая вера, а вполне заслуженное ею доверие. Нечто более важное, чем судьба кроликов, гибнущих под скальпелями жестоких вивисекционистов, задело Толстого!
…О Мечникове он помнил до конца своих дней — говорил о нем часто и с неизменным раздражением. Иногда даже забывал фамилию своего оппонента.
«— Ну, этот, как его, знаменитый ученый!..» Близкие знали, кого он имеет в виду, и подсказывали: «Мечников?» — «Да! Так он говорит, что…»