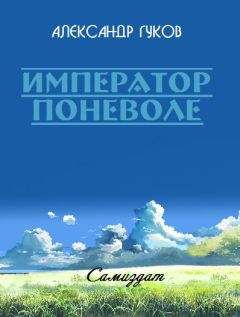Михаил Лобанов - Аксаков
Крестьянский вопрос всегда был волнующим, животрепещущим в их доме. Разговоры, споры о положении крестьян, о судьбах страны не утихали среди западников и славянофилов, когда в 30–40-х годах в один из дней недели они собирались у Аксаковых. А Константин Аксаков еще задолго до подготовки к освобождению крестьян занялся изучением русских древностей, чтобы дойти до корня — как началось закрепощение крестьян, и пришел к выводу об «историческом праве крестьян на землю». Практически это означало — обязательное наделение крестьян землей при их освобождении. И этот вывод Константина Аксакова был использован Самариным и Черкасским во время выработки Положения 19 февраля 1861 года в редакционных комиссиях.
Казалось, что аксаковский дом был кораблем, который тронулся и где все как пассажиры чувствовали себя в ожидании небывалых открытий. Константин повторял восторженным голосом свое мнение о русском крестьянине: наконец-то этот богатырь распрямит свои плечи! Иван Сергеевич после возвращения осенью 1857 года из заграничного путешествия осел как будто надолго в Москве, в своем семействе, и предался усиленной деятельности по изданию журнала «Русская беседа», а затем газеты «Парус». Он давно определил свое отношение к крепостному праву, двадцатипятилетним чиновником он писал отцу: «Я же дал себе слово никогда не иметь у себя крепостных и вообще крестьян… Я же держусь того мнения, что помещики непременно должны понести правомерный убыток при эмансипации крестьян за то, что целые столетия пользовались безобразными правами над собственностью и лицом крестьянина; я считаю их, лучше сказать, я не вывожу этого логически, но душа моя говорит мне, что крестьянин, обрабатывающий землю, крестьянин, для которого она единственная мать и кормилица, более меня имеет на нее право». И теперь эти мысли, высказанные десять лет тому назад, Иван Сергеевич проповедовал со страниц, или, как тогда говорили, с кафедры журнала. Когда-то, совсем еще молодым, двадцатитрехлетним, он возражал старшему брату, призывавшему во всем следовать народу: «Когда я говорю об образованности, то вовсе не значит, чтоб в противоположность ей я поставлял другую крайность, мужика… Я сошел бы с ума, если б мне пришлось жить постоянно с мужиком». Но вскоре, под влиянием путешествий по России, развернувшихся перед ним картин народной жизни («Что за народ во Владимирской губернии! Живой, бодрый, великорослый, умный, деятельный, промышленный; богатые, чистые села, красивые наряды… Чудо, что такое!»), под обаянием открывшейся ему красоты народного характера Иван Аксаков, как и старший брат, готов будет «сочувствовать вполне народу». Эта любовь к народу выработается в Иване Аксакове во всей полноте впоследствии, уже после смерти Константина Сергеевича станет его душевным убеждением, войдет в плоть его публицистической, общественной деятельности…
Так была встречена весть в семействе Аксаковых о готовящейся реформе. Ну а сам глава, Сергей Тимофеевич? Былая страстность, увлеченность его натуры ожила и потребовала не слов, а самого действия. Сразу же после объявленного царского рескрипта он письменно известил оренбургского предводителя дворянства о своем желании освободить крестьян, не дожидаясь специального решения вопроса об этом. Нравственное бремя было сброшено, и как-то самому стало свободнее, легче.
Чаще других в последнее время в доме Аксаковых бывал В. П. Безобразов, видный экономист и публицист. Он вел с Сергеем Тимофеевичем «сочувственные беседы», по его собственному выражению; приветствуя отмену крепостного права, оба сходились во мнении, что она должна быть проведена без обострения противоречий между помещиками и крестьянами. Темы этих бесед легли в основу обширной статьи В. П. Безобразова, опубликованной во второй августовской книжке «Русского вестника» за 1858 год под заглавием: «Письмо к С. Т. Аксакову по поводу крестьянского вопроса». Самого Сергея Тимофеевича волновал вопрос: как пройдет реформа? В раздумье об этом он написал стихотворение «При вести о грядущем освобождении крестьян», которое начиналось словами:
Жребий брошен… Роковое
Слово выслушал народ…
Слово страшное, святое
Произнес минувший год.
С. Т. Аксаков считал, что «святое» дело освобождения крестьян откроет благотворную эпоху в истории России, народ, скинув крепостные оковы, стеснявшие его могучие силы, пойдет «в путь свой новый». В стихотворении и выражено это торжествующее настроение в преддверии события. И в то же время автор с тревогой думает о другом: какую дорогу может выбрать народ, куда он пойдет?
Тихая ль взойдет свобода
И незыблемый закон?
В церковь ли пойдешь с смиреньем
Иль, начавши кабаком,
Все свои недоуменья
Порешишь ты топором?
В мажорном тоне стихотворения это как бы попутный вопрос, но не случайный для автора. В семейных преданиях Аксаковых витал и этот призрак топора, конечно, мало заметный при общем мирном течении жизни, однако и не такой безобидный, чтобы забыть о нем. В «Семейной хронике» Сергей Тимофеевич по родовым преданиям вспоминает «пугачевщину». Упоминая о топоре, С. Т. Аксаков как бы предчувствовал то вскоре же после его смерти наступившее время, когда революционеры будут звать «Русь к топору».
Огромные перемены ждали Россию, и не только в «устройстве крестьян». Новые силы появились на исторической сцене. Уходила на глазах в прошлое столь любезная сердцу С. Т. Аксакова старая жизнь. Степан Михайлович Багров, дед писателя, как бы жил с ним, тешил его величием своим, пока он писал свои семейные предания, но как только окончил — особенно остро почувствовал, что таких людей, как Степан Михайлович, уже нет и не может быть в настоящее время. Сергей Тимофеевич даже рассердился на сына Ивана, когда тот заявил, что «Степан Михайлович теперь бы не годился». Он бы отлично годился, отвечал Сергей Тимофеевич, да вся беда в том, что он невозможен теперь.
Да что там Степан Михайлович, даже Куролесов уходит в прошлое, выглядит как злодей старомодный в сравнении с хищниками современными, цивилизованными, этими негоциантами, именуемыми новым на Руси словом «буржуа». Куда там Куролесову до современных «извергов»! Сравнивая его с ними, С. Т. Аксаков писал: «Тот был буйный гуляка, кровопийца по инстинкту и драл только прислугу свою, которая разделяла его пьянство, а крестьянам у него было жить хорошо. Он был нежаден на доходы (что я прибавлю в новом издании), и первою его заботою было благосостояние крестьян». Современный же нарождающийся тип «образованного» хозяина — это «такой изверг, которому и имени нет», по словам Сергея Тимофеевича. Знает ли этот новый хозяин, этот негоциант предел своим «доходам», есть ли ему какое дело до «благосостояния крестьян»? Одно у него дело и одна цель — приобретать любыми средствами все, что только можно приобрести, не останавливаясь ни перед чем, действуя с невиданной на Руси изощренностью и наглостью и поклоняясь одному божеству — деньгам. Что будет с Россией, думал Сергей Тимофеевич, хватит ли у нее здоровых сил, чтобы преодолеть это разлагающее народную жизнь вторжение, судя по всему, легионов «новых людей», хищников-негоциантов. За разговором вспоминались и мысли тех близких людей, которые бывают в их доме, и доходившие через них суждения знакомых литераторов. Не та ли же самая тревога за будущее России, подвергающейся со стороны «всемирных граждан» опасности духовного обезличивания, не эта ли тревога побудила Аполлона Григорьева сказать, что есть для нас, русских, вопрос первостепенной важности, это вопрос о нашей самобытности, о самостоятельности исторического пути. Константин как-то приутих: хотя и не могло быть и речи о перемене им своих заветных убеждений о народе, о русском мужике, но он стал больше говорить о другом, вернее, о другой стороне все той же медали — по контрасту с неизменными для него достоинствами русского крестьянина обличал механистичность тронутого буржуазным духом «современного человека». Позднее он напишет статью, так и названную: «О современном человеке», в которой выразит все волновавшее его. Не было для него ничего более мрачного и безотрадного, чем картина того, если бы все человечество отказалось от народных, других нравственных связей, высших связей веры, обратилось бы в разрозненные единицы, в эгоистические личности. Это была бы всеобщая сделка, основанная на эгоистическом расчете каждого. Это была бы всеобщая смерть на земле. Тогда беспрепятственно восторжествовало бы механическое начало в отношениях между людьми и человеческое общество обратилось бы в машину. Ум, все способности человека не имели бы иного назначения, как только быть средством, орудием материальных улучшений. Ничего живого, органического не осталось бы в человеке, кроме разве лишь его физической, грубой стороны. Человек стал бы не нужен миру, стал бы бесполезен на земле.