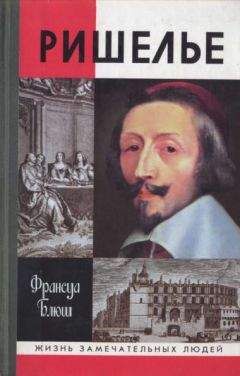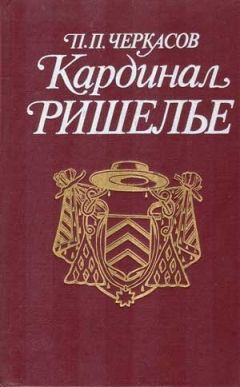Соломон Волков - Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым
Вторая версия состоит в том, что Сталин лично указал на Зощенко по личным причинам. Вождь и учитель, видите ли, был задет. Когда-то Зощенко для заработка написал несколько рассказов о Ленине, в одном из которых тот был описан как мягкий и добрый человек, этакая светлая личность. А для контраста Зощенко описал грубого партийного чинушу, как исключение, просто для контраста. Грубиян, естественно, не был назван, но говорилось, что хам работал в Кремле. В рассказе Зощенко у хама была борода, и цензор сказал, что бороду надо убрать, потому что могут подумать, что это — Калинин, наш «президент». Второпях они совершили ужасающую ошибку. Зощенко удалил бороду, но оставил усы. У грубого партийного чинуши в рассказе Зощенко были усы! Сталин прочитал и обиделся. Он решил, что это — о нем. Вот так Сталин читал беллетристику.
Ни цензор, ни, тем более, Зощенко, наверняка не предвидели и не могли предвидеть такого оборота событий и не подумали о роковых последствиях удаления бороды.
Думаю, что каждая из этих версий содержит долю истины, то есть что обе имели место. Но, кроме того, я все-таки думаю что главной причиной для нас обоих: Зощенко и меня — стали союзники. В результате войны популярность Зощенко на Западе резко возросла. Его часто издавали и с готовностью обсуждали. У Зощенко много рассказов как раз для газет, к тому же ему можно было не платить, поскольку закон об авторском праве не охраняет советских авторов. Так сказать, дешево и сердито. Но это, как оказалось, привело к трагическим последствиям для самого Зощенко.
Сталин пристально следил за иностранной прессой. Он, конечно, не знал ни одного иностранного языка, но холуи сообщали ему обо всем. Сталин тщательно взвешивал чужую популярность, и, как только ему казалось, что она становится хоть чуточку тяжелей, чем надо, он сбрасывал ее с весов.
До поры до времени это прощалось Зощенко, хотя о нем и говорили всевозможные гадости, какие только можно вообразить. Зощенко — аморальный тип, прогнившая и извращенная личность. Жданов объявил его беспринципным, бессовестным литературным хулиганом. Критика в Советском Союзе — поразительная штука. Она построена по известному принципу: тебя бьют, а ты не плачь. В допотопные времена в России все было иначе. Если тебя оскорбляли в прессе, ты отвечал на другом литературном форуме, или друзья принимали твою сторону. Или, если происходило худшее из худшего, ты выплескивал свое раздражение в кругу друзей. Но это было до потопа. Теперь дела обстоят по-другому, более прогрессивно.
Если тебя по приказу вождя и учителя обливают грязью с головы до пят, даже не думай утираться. Ты кланяешься и благодаришь, благодаришь и кланяешься. Никто никоим образом не обратит никакого внимания ни на одно твое «враждебное» возражение, никто не встанет на твою защиту. А печальнее всего — то, ты лишен возможности выпустить пар в дружеском кругу, потому что в этих прискорбных обстоятельствах не бывает друзей.
От Зощенко отшатывались на улице — в точности, как и от меня. Люди переходили на другую сторону, чтобы не поздороваться с ним. А еще больше кляли Зощенко на срочно организованных митингах, и самыми рьяными тут были именно бывшие друзья, те, кто вчера громче всех его расхваливали. Зощенко все это, казалось, удивляло, но меня — нет. Я прошел через это в молодости, и последующие штормы и непогода только укрепили меня.
Ахматову Сталин выбрал по той же самой причине: зависть к ее известности, черная зависть. Настоящее безумие! В жизни Ахматовой было много потерь и ударов: «Муж в могиле, сын в тюрьме». И все же ждановский эпизод был для нее самым тяжким испытанием.
У каждого своя судьба, но было из нас и что-то общее. Как ни странно, и Ахматовой, и мне легче всего было во время войны. Во время войны об Ахматовой услышали все, даже люди, которые ни разу в жизни не читали стихов. Тогда как Зощенко читали все и всегда. Интересно, что Ахматова боялась писать прозу и считала Зощенко самым высоким авторитетом в этой области. Зощенко позже рассказал мне об этом. Со смехом, но и с некоторой гордостью.
После войны в Москве состоялся вечер ленинградских поэтов. Когда на сцену вышла Ахматова, зал встал. Этого было достаточно. Сталин спросил: «Кто организовывал вставание?»
Я встретил Ахматову задолго до этого, в 1919-м, том «незабываемом» году, а может быть, в 1918-м, в доме доктора Грекова, хирурга, известного человека и друга нашей семьи. Он руководил Обуховской больницей. О Грекове стоит рассказать: он много сделал для нас, для моего отца и меня. Когда отец умирал, Греков провел у нас всю ночь, пытаясь спасти его. Именно Греков удалил мне аппендикс, хотя частенько говорил: «Не очень-то большое удовольствие, знаете ли, отрезать что бы то ни было». Это был огромный человек, пропахший табаком. И, как все хирурги, Греков был груб, это — профессиональная черта.
Я ненавидел Грекова. Каждый раз, уходя из его дома, я находил в кармане своего пальто еду для родителей. Я задыхался от гнева: я что, нищий? мы что, нищие? Но отказаться не мог. Мы, действительно, отчаянно нуждались в питании. Но я ненавижу милостыню, не люблю одалживать деньги. Я терплю, пока это необходимо, и расплачиваюсь при первой возможности. Это — одна из моих главных ошибок.
Греков, конечно, любил похвастаться. Я помню одну из его знаменитых операций. Надо было что-то сделать с девочкой, которая не росла. Греков решил, что, если расширить ее таз, все пойдет обычным путем. Он переместил тазовые кости, и девочка стала расти в ширину и в высоту, и даже родила ребенка.
Жена Грекова, Елена Афанасьевна, баловалась литературой. Она была бездарной графоманкой, которая, вероятно, умерла бы от неразделенной любви к литературе. Но время от времени Греков, у которого денег куры не клевали, издавал какие-то творения жены за свой счет, и таким образом продлил ей жизнь. У Грековых был своего рода литературный салон. Они давали приемы, стол ломился от пищи. Писатели и музыканты приходили поесть. В их доме я и увидел Ахматову. Она время от времени заглядывала туда. Разумеется, она приходила в этот салон подкрепиться. Это было голодное время.
У Грековых имелся рояль, и я был частью угощения, отрабатывая съеденное. Но не думаю, чтобы Ахматову тогда сильно интересовала музыка. Она создала вокруг себя ореол величия, и надо было замирать в двух метрах от нее. Ее поведение было выверено до мельчайших деталей. Она была очень красива, очень.
Как-то мы с моим другом, Леней Арнштамом, заглянули в книжную лавку писателей. Вошла Ахматова и спросила у продавца одну из своих книг. Не помню какую, то ли «Белую стаю», то ли «Anno Domini». Продавец подал ей экземпляр, но Ахматова хотела купить десять штук. Продавец рассердился и сказал: «Нет, это неслыханно! Книга очень хорошо продается, и в любой момент может потребоваться. Я должен заботиться о своих покупателях и не стану продавать по десять экземпляров первому попавшемуся. Что я скажу другим покупателям?»