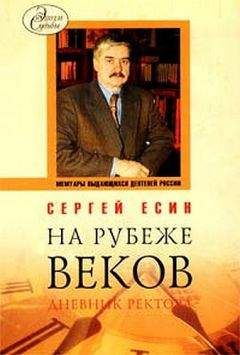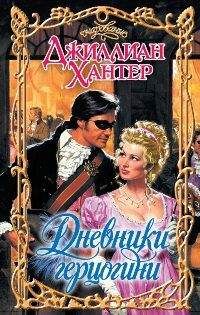Валентина Пашинина - Неизвестный Есенин
Но вскоре скандал иного рода разразился в высокопоставленном обществе красных комиссаров, и повинна в этом была Айседора.
Как далее вспоминает Мери Дэсти, «Айседора была приглашена на вечеринку большевиков. Вот где, думала она, встретится с товарищами — людьми, с которыми она сможет поговорить, которые ее поймут. Чтобы быть достойной, она надела красную тунику, обвила голову красным шарфом и, как обычно по вечерам, накинула на себя красную шаль.
Представьте изумление Айседоры, когда ее ввели в очаровательный салон в стиле Людовика XVI с изящными стульями на выгнутых ножках. Все приветствовали ее на великолепном французском языке, называя «мадмуазель Дункан», на что она резко отвечала: «Я товарищ Дункан». Это всех сильно позабавило.
Гости восседали, как автоматы, но одна молодая дама села за рояль и начала петь одну за другой маленькие французские баллады. Публика изящно похлопала, восклицая:
«Изысканно, прелестно». Айседора глядела на всех этих увешанных драгоценностями, хорошо одетых, декольтированных дам и не могла понять, где она. В конце концов она не выдержала и, вскочив, воскликнула: «Так вот она какая, большевистская Россия! Господи! Для чего совершалась великая кровавая революция? Ничего не изменилось, кроме актеров! Вы забрали их драгоценности, мебель, одежду и манеры. Но только вы играете хуже. Выпустите меня! Выпустите меня!» И она с воплями выбежала на улицу.
Приехав домой, Айседора разразилась хохотом. Ну и идиотка же она была, когда думала, что что-нибудь в мире можно изменить! Большевизм — что за ним? Слова, одни только слова! Она готова была утопиться».
В пересказе Мэри Дести есть существенная деталь — слова, которые потом почти без изменений вошли в советскую классику: «Пустите Дуньку в Европу!» И есть основание считать, что эту главу написала сама Айседора — это были последние четыре страницы из тех, что она положила на колени Мэри Дести.
Была в Айседоре черта, которая притягивала к ней людей. Она была внимательна, уважительна к каждому человеку. Умела учтиво разговаривать со всяким, и каждый был ей интересен. Видно, поэтому у нее было много друзей. Айседоре была несвойственна грубость, бестактность. Поэтому скандал в «святом семействе» красных комиссаров, который возник по вине Айседоры, надо рассматривать как явление из ряда вон выходящее.
Собственно говоря, что возмутило именитую гостью? Не понравился дворец с аляповатыми, безвкусными украшениями? Не понравились новые хозяева? Отныне она их стала звать «новой буржуазией». Не понравились дамы, увешанные драгоценностями? Таких она называла «жены в перьях». Они развлекались, как умели, развлекались, как все. Это была видимая, внешняя сторона, а что за ней?
В первые дни своего приезда Айседора, Ирма и их компаньонка Жанна побывали в общественной столовой. Увиденное там глубоко опечалило их. И через много лет Ирма вспоминала, как пыталась пригубить эту коричневатую похлебку в алюминиевых мисках и тот хлеб, от которого у них болели животы. А Айседора говорила: «Мы теперь товарищи, мы, как все».
Айседора, как и многие другие, оказалась наивной и доверчивой. Поверила в коммунистические идеалы, оказавшиеся пустыми бреднями.
Нарочно ли вводил в заблуждение читателя Герберт Уэллс, когда писал, что Советское правительство — самое молодое и бесхитростное и если допускает ошибки, то не по злому умыслу, а по неопытности. Писатель убеждал, что в России все бедствуют одинаково, что у писателя Максима Горького один костюм на все случаи жизни.
Айседоре, увы, сразу пришлось убедиться в другом. Все лучшее — и дворцы, и питание — отвоевали для себя новые хозяева жизни. Гостиницы с клопами и мышами, грязные общественные столовые с коричневой похлебкой в алюминиевых мисках приводили ее в содрогание. С этой несправедливостью она мириться не хотела. «Господи! Для чего совершалась великая кровавая революция?» «Неужели в мире ничего нельзя изменить?»
Скандал вызвал большой резонанс, замолчать его было нельзя. Расхлебывать пришлось А.В. Луначарскому. Он выступил со статьей, где с юмором был упомянут «воинственный коммунизм» Айседоры. И, казалось, инцидент был исчерпан. Но так только казалось.
Ради справедливости следует сказать, что Айседора видела и перемены в стране. Несмотря на чудовищные трудности, в Москве и других городах работали театры, открывались клубы по интересам.
Часто устраивались вечера поэзии.
Выступая перед рабочими и революционными матросами, Айседора видела, каким восторгом горели их глаза, когда она танцевала «Марсельезу» или «Интернационал», в едином порыве вставал зал навстречу пролетарскому гимну. В такие моменты ей хотелось хоть чем-нибудь помочь этим людям, облегчить их страдания. По-прежнему она ничего не просила у правительства, только открыть побыстрее школу и дать ей детей. «Спасибо, но мне ничего не нужно, — сказала я Луначарскому, — я готова голодать вместе со всеми, только дайте мне тысячу мальчиков и девочек из самых бедных пролетарских семей, а я сделаю из них людей, которые будут достойны новой эпохи. Это ничего, что вы бедны, это ничего, что голодны. Мы все-таки будем танцевать!»
Голод, нищета, серость и скука были ее смертельными врагами, с ними она боролась, как умела. Она и в Россию, где господствовали голод, серость и уныние, привезла самые яркие свои одежды, а дом открыла для всех голодных людей московской богемы.
Не все поняли ее порыв так, как она хотела. Художник Юрий Анненков вспоминает: «Захваченная коммунистической идеологией Айседора Дункан приехала в 1921 году в Москву, Малиноволосая, беспутная и печальная, чистая в мыслях, великодушная сердцем, осмеянная и загрязненная кутилами всех частей света и прозванная «Дунькой» в Москве, она открыла школу пластики для пролетарских детей в отведенном ей на Пречистенке бесхозном особняке балерины Балашовой, покинувшей Россию…
С Есениным, Мариенгофом, Шершеневичем и Кусиковым я часто проводил оргийные ночи в особняке Дункан, ставшем штаб-квартирой имажинизма. Дункан пленилась Есениным, что совершенно естественно. Роман был ураганный и столь же короткий, как и коммунистический идеализм Дункан».
Этот «красный» эмигрант крайне осторожен в суждениях и выражениях. Сочувствует ли он беспутной и великодушной» Айседоре, «загрязненной кутилами всех частей света», или, присоединившись к этим кутилами, бросил свою ложку дегтя? Попробуй, пойми!
А вот друг Есенина Алексей Ганин, арестованный в августе 1924 года, и в протоколах допроса сумел сказать об Айседоре доброе слово. Эти протоколы А. Ганин писал сам, отвечая на вопросы следователей. Станислав Куняев назвал их очень точно — «тюремными мемуарами Алексея Танина». «С Айседорой Дункан, — писал арестованный, — меня познакомил Есенин как со своей бывшей женой (следовательно, и после возвращения из-за границы Есенин посещал Айседору). У Дункан я был раз пять, где бывало иногда много людей, говорилось на разных языках. Были мы и держались там — Есенин, Клюев и я, Аксельрод, Рабинович. Говорили всегда ни о чем — комплименты Айседоре или обо всем до тех пор, пока Есенин не начинал с кем-нибудь драку».