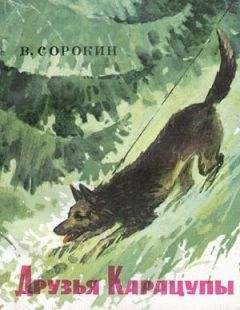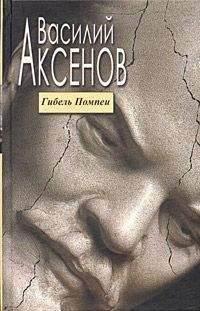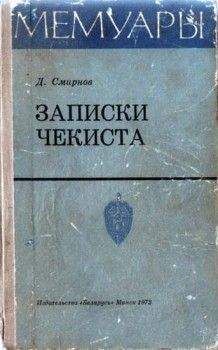Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий
Так была убита латынь.
Ни разу за семь лет я не слышал от него ни одного внятного объяснения; все объяснения — запутывания путаннейшего текста грамматики Элленда-Зейферта73, гнуснейшим, витиеватым, вовсе не русским языком (он был не то чех, не то галичанин, не то поляк, один из тех исказителей языка, которые наводнили гимназии с эпохи внедренья системы классической); вместе с «русскими» учебниками, авторы коих «Нетушиль», «Поспешиль», «Элленд-Зей-ферт» и прочие, появился и Павликовский; и когда эти учебники исчезли и в гимназию ворвалась струя естествознания, К. К. постарел, смяк, стал прихварывать; и исчез с горизонта.
Ни одного объяснения!
Объяснял он усилением голоса; прочтет текст, написанный не «впрочет»; прочтет его же с удвоенной громкостью, потрясая наставительно пальцем; самодовольно оглядывает:
— Поняли?
Никто не понял.
Тогда он гнусаво протрубит ту же фразу, написанную нерусским языком; опять не поняли; выучивая назубок различия пятнадцати «кум» (когда) и «ут» (чтобы), мы завирались ужаснейше; так прошли объемистый курс с чтением Овидия, Виргилия, Цицерона, Горация.
Это ли не безобразие?
Так же К. К. меня разучил немецкому языку (не повезло нашему классу, — он и немецкий ломал!); поступая в первый класс, я еще знал кое-что (реминисценция детства); в восьмом же классе, читая Лессинга, я уже ничего не знал; и хотя я годами потом проживал в Германии, теснейше общаясь с немцами, я говорю по-немецки ужасно: во мне деформировалась как бы ось грамматического восприятия языка.
Деформировал Павликовский.
Маленький, коренастый, с коричневым лицом, напоминающим помесь птицы с обезьяною (от обезьяны — павиано-мандрилл; от птицы — смесь коршуна, вороны и курицы), гигантски пропяченным заострением клювоноса, имеющего на перегибе горбины площадку, — носа, который он растирал противно пальцем правой руки, иногда залезая в ноздрю желтым ногтем, сутулый, с маленькою головкою, обрамленной черненькой бороденочкой с проседью (точно обкусанной), с сардонически улыбающимся (презло и прегадко) ртом — даже тогда, когда не на что было улыбаться, с пытливыми какими-то желтыми зрачками юрких глазенок, он производил впечатление вечного паяца (и когда объяснял, и когда хвалил, и когда порицал); и нельзя было разобрать, над чем он глумится; его глумление выражалось в иронических «ээ», «хээ», «хм», в постукивании нас по лбу пальцем (лишь в шестом классе мы его отучили от этого), сопровождавшем исправление стиля наших переводов, где доминировали выражения вроде: «Кто бы то ни было из долженствующих быть хвалимыми, что бы ни говорили из долженствующих быть поносимыми, да прославит тебя, о, Мет Фуффеций» и так далее. Наломав нам эдакого рода фраз, он насмешливо ухмылялся:
— Хээ!
С «хээ» ставил двойку; с «хээ» ставил три с плюсом (высшая награда). Впечатление, что все нахально осмеивалось (ученик, его способности, самые его запросы культуры, самое «святое святых» его чувств), нас охватывало при вступлении в класс Павликовского; и мы, взбешенные этим подразумеваемым цинизмом, уже начинали кидаться на него, как злые псы; и — да: «забижали» его, но в ответ на какое-то осмеяние жизни, на кривлянье паяца, на «хээ»; и звали «Кузькой»; и писали на доске по-гречески перед появлением его у нас «Тини тинос» (дательный и родительный падеж от греческого местоимения «тис»), что означало: тяните нос, то есть тяните «Кузьку» за его длинный нос; шесть лет каждый день тупо писалась все та же надпись; и шесть лет, каждый день, входя в класс и не глядя на доску, он буркал:
— Сотрите!
Знал, что написано.
Иногда начинало казаться, что он вовсе не глумится, а плачет; глумящийся вид — просто маска несчастного человека, как маска героя Гюго; того звали «Человек, который смеется»;74 этого надо было прозвать «Человек, который имеет вид глумящегося шута» (но он и глумился); сердце охватывала порою жалостная жуть перед непонятною человеческой формой с утраченным человеческим содержанием; иногда охватывали и иные импрессии: чуялись какие-то бреды; странно, что Павликовский во мне вызывал реминисценции моего скарлатинного бреда, когда мне казалось, что кто-то за мною гонится; и этот бред начинал сниться по ночам; возвратясь из гимназии, я приносил светлые искры уроков Льва Ивановича и темное, душное, дома продолжающее облипать облако латинского урока, или — бреда наяву. Но Поливанов бывал у нас лишь три раза в неделю; а Павликовский — каждый день; и два раза в неделю по два часа (урок латинского, урок немецкого); в плоскости воспоминаний он — самое широкое пятно их; и — самое темное пятно.
Я им болел от третьего до шестого класса (учась у него с второго и кончая восьмым); мне казалось, он чем-то остро гадким налезает на меня; в пятом классе я взбунтовался: и стал наступать на него; он — испугался; и между нами к седьмому классу водворилась конституция: он не будет мешать мне читать Бьернсона под партою; я не стану дразнить его; это «дразненье» его мною, не любящим дразнений и углубленным в свои проблемы (литература, «символизм», философия), было лишь выражением особого нервного заболевания, в которое меня вогнали уроки латыни и в которое впадали не все, но исключительно впечатлительные мальчики; знали, что есть особая категория детей, не выносящих Павликовского; когда и М. С. Соловьев, как мой отец, жаловался на Павликовского, то лицо, близкое к педагогическому совету гимназии, улыбнулось:
— А, он из таких же, как…
И были перечислены имена «таких»: «каких» же — хотел бы спросить я. Уже позднее, когда я освободился от темного облака латинских уроков, я себе ставил вопрос:
«Что, собственно, переживал ты?»
И я себе отвечал:
«Ты переживал миф об Аримане»75. Появление К. К. в кошмарах делало его имманентным давно забытому бреду, в котором кто-то за мною гнался; и этот бред был тем тягостнее, что он был бредом наяву, среди бела дня, в атмосфере учебного заведения.
Уже студентом, увидев моего былого «мучителя» на Пречистенке, я не без любопытства его нагнал и поздоровался с ним, нарочно стараясь разговорить его, пошел с ним и пристально в него вглядывался, чтобы понять, что ж в нем внушало еще недавно мне ужас; он, сказавши с чрезмерной любезностью, с приторной любезностью несколько фраз, вдруг остановился; и стал прощаться со мною, хотя наш путь лежал в одном направлении; он явно не пожелал мне показать своего человеческого лица; он явно заметил мое любопытство; он явно испугался; и, как большой, черный, скорлупчатый жук, представился мертвым.
Я его бросил, пройдя вперед и не разрешив тайны своего недоумения.
![Василий Стенькин - Рассказы чекиста Лаврова [Главы из повести]](/uploads/posts/books/45116/45116.jpg)