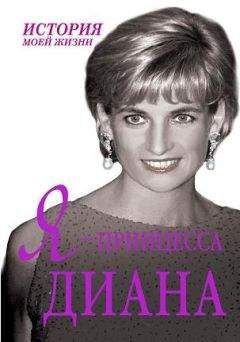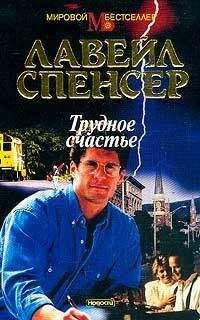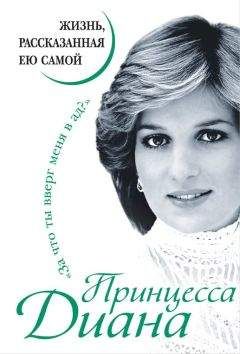Марсель Брион - Моцарт
Этот анекдот характерен для того духа, который Вольфганг хотел вдохнуть в постановку. Прежде всего требовалось, чтобы все было естественным, чтобы у слушателя возникло впечатление реальности того, что происходит на сцене.
Привыкшие к некоторому искусственному стилю, итальянские певцы редко достигали такой выразительности переживания. Речь шла, разумеется, не о веризме, который введут в моду итальянские композиторы XIX столетия, в особенности Верди [14], а о манере пения и игры, которая увеличивает достоверность события и подчеркивает волнующую ценность музыки. Все то обычное, что еще оставалось у Чима-розы — и у его будущего наследника Россини, — следовало отбросить.
Играть Дон Жуана как натуралистическую драму было невозможно, нужно было, чтобы опера обрела ту впечатляющую безыскусную простоту, ту драматическую очевидность, которые присущи, например, греческой трагедии. Новая опера — апология фатализма — не могла быть поставлена в том искусственном стиле, который был столь привычен итальянским певцам, для которых он стал своего рода второй натурой; необходимо было создать новый стиль, глубоко отвечавший сущности нового произведения, стиль, который заставил бы слушателей дрожать от страха, столкнувшись — пусть даже всего лишь на сцене — с присутствием Фатума. Режиссер Гвардасони понял, чего желал Моцарт, и помог этого добиться.
Триумфальный успех Дон Жуана наполнил Моцарта радостью и одновременно тревогой: он опасался, как бы ревнивая к сопернице Вена не оказала дурной прием произведению, с восторгом принятому Прагой. Следовало ли давать премьеру в провинции, вместо того чтобы порадовать ею столицу империи? Лишь в мае следующего года, и то потому, что этого потребовал император, опера появилась в Вене. Моцарт переделал ее, чтобы удовлетворить вкусы соотечественников: ввел новые блестящие, в том числе комические, арии, не изменившие общий характер произведения. Возможно, именно поэтому Дон Жуан был принят довольно холодно. Да Понте предсказывал, что венцы не клюнут на такой большой крючок. Однако исполнение было наилучшим, с Алоизией Ланге и Катариной Кавальери, которые пели Эльвиру и Донну Анну; Альбертарелли был столь же представителен и талантлив, как пражский Дон Жуан, а Бенуччи, бессмертный Фигаро, создал великолепного Лепорелло, прекрасно соединив в этом образе юмор с жизненной правдой.
В период между 7 мая и 15 декабря Дон Жуана давали пятнадцать раз, после чего наступил десятилетний перерыв: через десять лет изобретательный Шиканедер поставил в Хофтеатре его посредственно адаптированную версию. Оперу ставили и на немецких сценах, но без большого успеха, несмотря на усилия Гвардасони, проделавшего с нею турне по городам и весям: Гамбург, Майнц, Франкфурт, Маннгейм, Бонн. Берлин услышал ее лишь через два года и, надо признать, принял очень хорошо. Похоже, однако, что общее мнение довольно точно выразила одна франкфуртская газета, цитируя Паумгартнера: «Еще одна опера, которая оглушила публику. Много шума и блеска, эпатирующих толпу, и ничего, кроме вздора и пошлости, для образованных людей. Музыка, хотя она гармонична и грандиозна, представляется скорее рассудочной, нежели развлекательной. Но при этом она не настолько общедоступна, чтобы вызывать всеобщий интерес. И хотя в целом речь идет о религиозном фарсе, я должен признаться, что сцена на кладбище наполнила меня ужасом. Кажется, Моцарт заимствовал у Шекспира язык призраков». Имя Шекспира, которое было паролем, объединявшим романтиков, означало для средних буржуа нечто отвратительное и отталкивающее. Неспособность публики приобщиться к романтизму Моцарта зафиксирована в газетных отчетах, доходивших до таких высказываний: «При рождении Дон Жуана главенствовали каприз, фантазия, спесь, но не сердце». Однако если говорить о произведении Моцарта, которое так непосредственно, так немедленно захватывает и потрясает, то это именно Дон Жуан. Я думаю, что во всем лирическом театральном репертуаре нет ни одного произведения, которое могло бы сравниться с ним по могучей патетике и горестной человечности.
В силу того, что публика XVIII столетия привыкла слушать, как марионетки на оперных сценах изображают искусственные страсти, она не могла отозваться на слышащийся здесь голос правды, такой настойчивый и могучий, что даже явные неправдоподобия, как, например, вмешательство Командора, не могли его заглушить. Можно ли представить себе что-либо более человечное, чем скорбное благородство Оттавио, чем та смесь озлобления и непобедимой любви, которая вдохновляет Эльвиру и Анну? Жили ли когда-нибудь на земле более «натуральные», более реальные создания, чем Мазетто и Церлина, чем сводник Лепорелло?.. Дон Жуан, скажете вы, неминуемо должен был смущать публику своими нечеловеческими качествами; но как сдержанно гуманизирует его романтизм Моцарта, не лишая при этом фатального ореола, и насколько правдив образ этого проклятого знатного сеньора, с равной страстью обольщавшего маленькую крестьянку, завоевывавшего нежность оставленной супруги и поднимавшего тост за наслаждение, за радость жизни! Стоит ли говорить, что это произведение родилось на полвека раньше, чем следовало, и что только романтики 1837 года были способны оценить все его достоинства? Гёте сумел воздать ему должное, Гофман взял его за основу одной из самых своих прекрасных сказок, Ленау обязан ему своим шедевром, а Тик говорил как об одном из самых трогательных воспоминаний, что слышал Дон Жуана в Берлине в 1790 году. Придя слишком рано в еще пустой зал, он заметил невысокого человека, раскладывавшего партии по пюпитрам оркестра и улыбнувшегося ему, когда их взгляды встретились, очевидно поняв, что Тик в свою очередь догадался, кто он такой. Это был Моцарт.
Зачем Моцарт приехал в Берлин? Маэстро искал более твердого заработка и был в плену иллюзии о возможности получить его от короля Пруссии, ведь австрийский император ему в том отказал.
После смерти Глюка в 1787 году император согласился предоставить Моцарту должность композитора Королевской и имперской палаты, которую при жизни занимал автор Алъцесты. Но хотя этот титул и сохранил свою помпезную окраску, австрийское казначейство, озабоченное режимом экономии, урезало жалованье по этой статье с двух тысяч до восьмисот флоринов. К этому следует добавить унижение, которое испытал Моцарт, войдя в такой «фавор». Глубоко оскорбленный, Моцарт лишь заметил: «Этого слишком много за то, что я сделал, но недостаточно за то, что я мог бы сделать». На деле от него не требовалось ничего другого, кроме как писать музыку для официальных балов. Но унижение было не в этом, ведь Моцарт растрачивал свой гений на «легкие» произведения с тем же пылом, с каким писал оперы, симфонии и концерты; великий артист всегда был верен себе, писал ли он серенады, менуэты или партитуру Дон Жуана. Легкая музыка Моцарта обладает божественной грацией, свойственной ему одному; он вложил и в нее всю душу, всю человечность, всю свою грандиозную простоту. Унижение состояло в том, что его творчество ценили в денежном выражении неизмеримо ниже, чем творчество кавалера. Тем не менее Моцарт согласился принять это предложение, поскольку отсутствие денег становилось все более и более тягостным, а долги накапливались так быстро, что у него не было иного выхода, как влезать в новые, чтобы расплачиваться за старые. Постоянные беременности Констанцы, связанные с ними болезни, смерть рождавшихся детей — выжили только двое из шестерых, один, доживший до 1844 года, Вольфганг Франц, другой — до 1858 года, Карл Томас, — усложняли жизнь семьи и усиливали нужду.