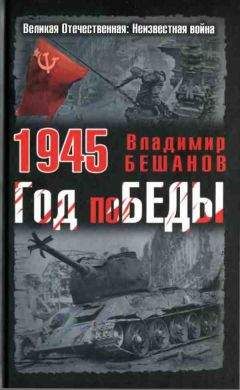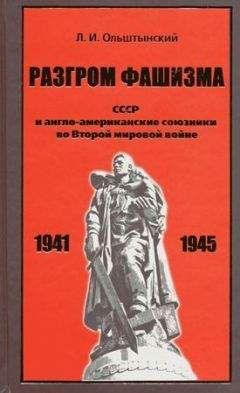Фаина Оржеховская - Шопен
Клара играла на прощанье этюды Шопена. И он удивлялся необыкновенной свободе и чуткости ее толкования. Кто внушил ей это? Фридрих Вик? Ни в коем случае! Шуман? Или, может быть, она сама пришла к этому? Совершенно искренне Шопен оказал, что никто, даже Лист, не играл так хорошо его этюды и что он сам не представляет себе лучшего исполнения.
Ему казалось, что он понимает теперь, в чем разница между Киариной и той, кого он по праву считает своей невестой. Марыня была аристократкой по рождению и воспитанию. Гордая осанка, независимый вид, изящная смелость – все это были внешние признаки, душу Марии он не успел узнать. Знал только, что она прелестна, и не представлял ее себе в каком-нибудь ином, чуждом ей окружении. Надо сказать, что шляхетский лоск ее брата Антека порядком слинял в Париже под влиянием неблагоприятных обстоятельств, и, глядя на Антека, слушая его несдержанную, по-модному невнятную и довольно вульгарную речь, Фридерик вспоминал пословицу: «Что позолочено – сотрется». И в Марыне не все естественно… Он вспомнил, как однажды исказилось ее лицо. Потом Она подарила ему красную розу…
А Кларе Вик, дочери немецкого бюргера, присущ аристократизм иного рода – благородство духа, которое не может изменить человеку ни при каких испытаниях!
И опять ему стало больно за Марию и стыдно своих сомнений. Захотелось рыцарски защитить ее, вызвать ее облик и проверить прочность своей любви. И когда Клара попросила его играть, он начал фа-минорный этюд, сочиненный в Дрездене, во время бессонницы.
– Что это было? – спросил Шуман, как бы очнувшись.
– Разве я не сказал? Это этюд. Для овладения сложным размером.
Но Шуман продолжал смотреть на него ярко блестевшими глазами.
– Это женский портрет, – сказал Шопен тихо.
Он сыграл этюд еще два раза, по просьбе Шумана и Клары.
– Хотите видеть мой собственный портрет? – спросил он неожиданно для самого себя. – Но уже не музыкальный.
Он носил его с собой.
Шуман взглянул на портрет и ничего не сказал. Клара тоже молчала.
– Это любительская работа, – начал Шопен, волнуясь, – но, по-моему, сходство есть.
– Никакого! – отрезал Шуман. – Я даже хотел спросить, кто это.
Но Клара была не так безжалостна. Она сказала, что портрет похож, но сделан неудачно.
– Тут дело не в отсутствии мастерства. Напротив, чувствуется довольно твердая рука. Но… – она запуталась и замолчала.
А Шуман отложил портрет и больше не взглянул на него. Молчание становилось неловким.
– Если бы вы оставили мне свой этюд, – робко сказала Клара, – я разучила бы его и сыграла в Париже до того, как он появится в печати:
– Это будет мое завещание вам! – воскликнул он, растроганный. – Если я исчезну, то по крайней мере останется музыкант, который угадал меня!
Шуман и Клара сердечно простились с ним, и он уехал в Париж. Зачем? Для того, чтобы ждать. Снова ждать целую зиму, так как ему было сказано при прощании с Марыней, что до будущей весны вряд ли удастся уговорить пана Водзиньского. Это дело трудное и тонкое, тут нужна длительная подготовка.
Глава тринадцатая
Ни одно долго ожидаемое письмо не может полностью удовлетворить нетерпение ожидающего. Даже самое тёплое и доброе неизбежно разочаровывает. Перечитываешь его по многу раз – и все-таки чего-то в нем не хватает. И начинаешь ожидать другого, надеясь, что на этот раз оно вознаградит тебя.
Но если письма коротки, сдержанны, если их можно понимать двояко, если они содержат намеки, после того как все уже сказано, если, наконец, они становятся холоднее и безличнее с каждым разом?
Тогда начинаешь вчитываться в отдельные слова, надеясь добраться до их истинного смысла. Что она хотела сказать вот этой фразой: «Я вам советую не забывать вашего верного секретаря Марию»? Разве он забывает? Разве можно забыть? И почему она называет себя верным секретарем? Она очень мило заботилась о нем, помогала ему переписывать ноты, складывала их на рояле, проигрывала их. Но разве она секретарь, а не возлюбленная? И зачем она так изысканно пишет? Разве нельзя просто написать: – люблю? – Ведь она уже оказала матери: «Это решено»! И почему она не пишет сама, а только присоединяется к пани Терезе? И часто сообщает, как ведут себя домашние. «Мама скучает, у Терезки красные глаза. Она буквально влюблена в вас, Фрицек!» А вы, Мария?
Она прислала ему домашние туфли, собственноручно ею вышитые. Очень затейливый узор. Конечно, это мило. Но разве это легче, чем написать: – Я тоскую по тебе, я люблю тебя? – Кстати, она еще ни разу не произнесла это слово! Ни разу, никогда!
И зачем ему туфли? У нее где-то в Сохачеве есть двоюродный дедушка, у которого астма, ему эти туфли пригодились бы скорее. Туфли, вязаный шарф на шею, может быть – набрюшник? В Париже так плохо топят! Но разве можно любить человека, которому связала набрюшник? Разве можно хотеть принадлежать ему? Увы, пани Тереза постоянно напоминает, что у него слабое здоровье и что надо тепло одеваться, обзавестись теплым бельем. И, вероятно, говорит это Марыне по нескольку раз в день!
Но, с другой стороны, вчитываясь в письма, он находил в них доказательства привязанности и нежности. – Прощайте, до свидания! – подчеркнуто. – Ах, если бы это могло быть поскорее! – Это писано ее рукой!
И потом – воспоминания все-таки утешали. Выражение глаз, звук голоса… Ее неожиданные обращения на «ты», от которых его бросало в жар: «Я только с тобой откровенна. Никто не понимает меня так, как ты!» Однажды, когда они шли вместе по улице, она оступилась, и он поддержал ее. Она прижалась к нему на мгновение и потом взглянула полурадостно, полублагодарно… А когда она провожала его в переднюю и сказала: «Ведь вы не очень спешите, не правда ли?» И сама пожала ему руку…
И вдруг в письме итальянское обращение: «Мио кариссимо маэстро!» Ведь это звучит полунасмешливо! К чему это все после сказанного, после слов: «ты можешь поздравить нас»?
И он чувствовал, как эти недомолвки, равнодушно-любезные признания, таинственная дымка, за которой пряталось истинное лицо Марыни, сковывали его, лишали смелости. Он не мог писать ей так горячо и искренне, как хотел бы. Срывались страстные, полные отчаяния слова. Но он зачеркивал их, словно стыдясь чего-то. Оттого, что он сомневался в ней, его собственные признания выходили напыщенными, ложными, он не знал, каким тоном следует ей писать. Иногда ему казалось, что его умно предупреждают: пожалуйста, только без нежностей! Ему даже слышалась интонация, с какой Мария произносит эти слова.
Конечно, он мог бы поставить вопрос прямо. Сказать, что желает узнать всю правду. Да или нет! Он не хочет связывать панну Марию. Ведь она совершенно свободна! Но он не мог написать так: ведь он-то не был свободен! У него не хватало сил, он боялся получить определенный страшный ответ. Он не был готов к тому, чтобы потерять ее. Чтобы перенести это!