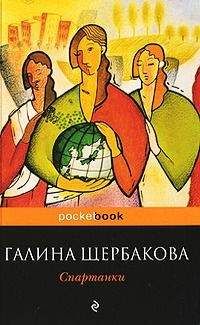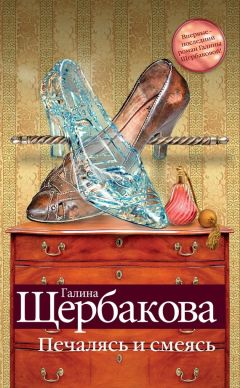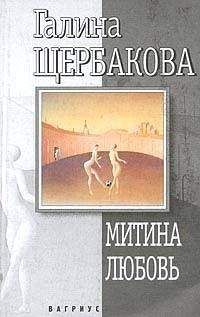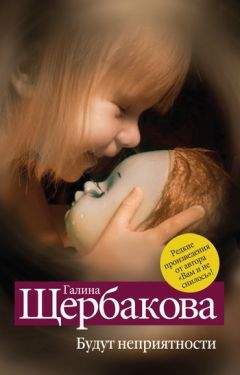Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой
Я уже писал, что мы приехали в столицу морально и умственно сложившимися антисоветчиками. Из чего образовался такой образ мыслей и, главное, чувств? Лишь отчасти из жизненных впечатлений. Например, из слухов о новочеркасском восстании 1962 года и устроенной там властями бойне. До сих пор люди мало что знают о тех событиях. Борис Яковлев, принимавший меня на работу в «Комсомолец», а в то время еще бывший сотрудником обкома партии и знавший обо всем в десятки раз больше, чем мы, написал в своей биографической книге, вышедшей в 2011 году после его кончины, следующее: «Я думаю, что придет время, когда нынешнюю правящую верхушку фээсбэшников народ сметет с земли и воздаст им по заслугам уже за их нынешние преступления. Тогда мы, если останемся народом, а не превратимся окончательно в послушное быдло, – тогда мы узнаем всю правду о Новочеркасске – его героях и его трусливых предателях и демагогах».
До нас же, живших в 40 километрах от разыгравшейся трагедии, сведения о ней, туманные, ничем не подтверждаемые, но все же с течением времени доползали.
Однако главную роль в очищении сознания сыграло чтение. В первую очередь – Самиздата. Я не поленился, извлек из уголков шкафчиков, стеллажей, антресолей «возмутительные листки» того времени, машинописные тексты, уложенные плотно, с нулевыми межстрочными интервалами и минимальными полями, часто напечатанные на прозрачной бумаге. Оказалась солидная библиотечка. Авторханов, большая книга про Сталина с потерянными страницами начала и конца и его же «Технология власти»; Открытое письмо Ф. Ф. Раскольникова Сталину; Первый суд над Иосифом Бродским (как я понимаю, запись Вигдоровой); письмо И. Голомштока по делу Синявского в Верховный суд РСФСР; Последнее слово А. Синявского и Последнее слово Ю. Даниэля на суде; Письмо Эрнста Генри И. Эренбургу; письмо А. Солженицына IV съезду писателей; «Номенклатура» М. Восленского. И еще много чего. «1984» Джорджа Оруэлла – какой-то очень ранний перевод, фамилия автора транскрибируется как Орвел, а официальный язык Океании называется не «новоязом», а попросту уткоречью.
Странное дело, но тут же оказались «Преждевременная автобиография» Евтушенко и… «Стихи» Николая Гумилева.
Я хорошо помню историю появления в этом собрании «Стихов». Дело было, когда я работал в радиокомитете. Ко мне подошел редактор художественных передач Саша Обертынский, увел меня в темный угол коридора и, понизив голос, спросил:
– Хочешь иметь книгу Гумилева?
– Хочу.
– Гони пять рублей на машинистку.
О Гумилеве я знал только, что он поэт и враг советской власти. Трудно даже сказать, что я ожидал найти в его книге. А нашел… обыкновенные стихи. Хорошие, сладостные стихи. Когда твое настроение попадало в резонанс с ними, ловился подлинный кайф. Разве плохо, что узнал такого поэта? Просто замечательно.
Но при этом я испытывал трудноуловимое и труднообъяснимое (именно тогда – в пору упразднения ГУЛАГа) чувство обмана. Почему я до сих пор не знал Гумилева? Зачем необходимы заговорщицкие повадки, чтобы получить распечатку его стихов? Мне неловко в этом признаться, но в то время я был уязвлен этим абсурдом больше, чем самим фактом расстрела Гумилева. Может быть, потому, что и так уже хорошо знал цену большевикам? А может быть, потому, что их беспардонное паскудство – закапывать само имя поэта – касалось и моих личных интересов: меня обкрадывали, и из меня норовили сделать пустоголового жителя коммунистической Океании.
(Нужно заметить, что я ревниво относился к нарушению чьих-либо личных интересов, исходя из предпосылки, что личное всегда выше общественного.
Здесь требуется пояснение. Среди наших с Галиной разногласий было и такое. Просвещенная молодежь второй половины пятидесятых годов была очень романтичной. Среди ее самых любимых заклинаний были два: «Мы в ответе за тех, кого приручили» – из «Маленького принца» и «Мы в ответе за все, что было при нас» – из повести Павла Нилина «Жестокость». Обе эти формулы мне очень не нравились. Первая – за заведомую очевидность, вторая – за лишенную смысла чрезмерность. А вот Галя относилась к ним с симпатией. И по привычке первой ученицы изо всей силы защищала.
Что касается «приручения», я еще мог стерпеть эту максиму по причине ее безвредности, но уж нести ответственность за все, что увидел… Однажды в ходе нашей полемики я сказал: и вообще в жизни личное всегда выше общественного.
Поначалу сам удивился этой мысли. Однако стал размышлять над ней, подбирать примеры и увидел: все правильно. Особенно это бросается в глаза, если посмотреть на плоды усилий большинства общественных и особенно политических деятелей. Неисчислимые беды! В лучшем случае, за редчайшими исключениями, от них не бывает худа.
Примерно в 2005 году я очень заинтересовался личностью Серафима Саровского. И у него нашел мысль, намного опережавшую мое «открытие». Он сказал одному своему посетителю: «Радость моя! Стяжи себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». Тем и впечатляет пример преподобного Серафима, что житием стала… просто жизнь, прожитая по собственному замыслу, цельно, без единого отступления. (Кто-нибудь из нас за свою жизнь видел в своем окружении хоть одного такого человека?)
В 2000 году Галина написала повесть «Уткоместь, или Моление о Еве». В ней одна из героинь, Ольга, вспоминает, как работала в редакции «Литературной газеты» и как там в идейных спорах проявлялся «комплекс личной вины, гомункулюс от скрещения Евангелия с писателем Нилиным. «Мы за все в ответе! Мы сами, сами виноваты!» – «Ну как я могу быть виновата за 37-й или 49-й? – кричала я. – Как?» – «Так! – отвечали они. По закону генетической памяти».
Поскольку «закон генетической памяти» в таком контексте – явная глупость спорщиков, ясно, что автор на стороне Ольги.
То есть в каком-то смысле – на моей.)
Предвижу вопрос: откуда у нас, провинциальных жителей, появилось блестящее собрание неподцензурных текстов? Отвечаю: в основном от Ариадны Громовой, «единственного учителя» Галины. Та жила в Москве, а нередкие Галины поездки еще из Челябинска в родной Донбасс, с сыном или просто в отпуск, пролегали через столицу. И ни разу Галина не возвращалась без какого-то бесценного интеллектуального дара от Ариадны. И из Ростова мы иногда летом на два-три дня прошвыривались «проветриться» в Москву. И из Волгограда – тоже. Так и накопилась наша библиотечка свободы. Но главное – она укладывалась у нас в голове.
А подобное привлекается подобным. И в Ростове, и в Волгограде вокруг нас всегда были, хоть и в не очень большом количестве, люди с образом мыслей, аналогичным нашему. Вот весьма выразительный пример.