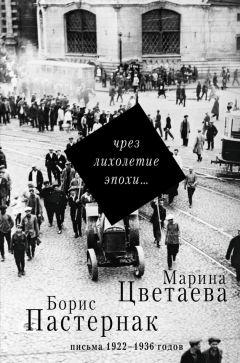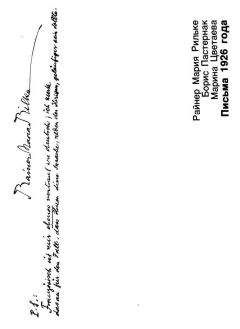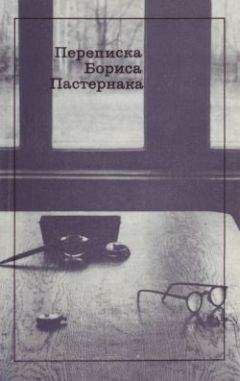Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - Пастернак Борис Леонидович
А нынче письмо с Нюрой. Лучше бы мне таких вещей не знать, они с детства разрыв<ают> мое сердце. Вот образ<ец>: у моей бабушки (швейцарки, мачехи матери) в Тарусе был садовн<иком> черкес, убивший где-то кого-то и отбывавший в Тарусе поселение. Андрей. Мне было 6 лет. Я смотрела, как он окап<ывает> яблони, и мы беседовали. «Какая книжка?» – «”Ясное солнышко” Лукашевич. Про девочку, которая всем делала добро и потом умерла». Показ<ала> картинку. Потом позвали. Потом <пропуск одного слова>. Посреди песочного двора проща<ние>: бабушка, ее две прислуги-латы<шки>, обожающие меня, Андрей. – Гувернантка и я. – Целую бабушку, целую латышек и подаю руку Андрею. – Смех. – Да что вы, барышня, нешто с садовником за руку прощ<аются>? (латыш<ки>). И я, покраснев до слёз, вторично, молча, ожесточенно. И, бабушка: «Mais tu es parfois raison, petite. Il est peut-être prince dans son pays» [129]. – Так вот все эти Иваны-Царевичи, хлынувшие в Москву, «за книжками», и твое сжатое сердце от бездны между данным и Сестрой моей Жизнью, СТЫД ЗА НЕЕ, как мой – за столькое. И твоя радость отводу – Года. Знаю всё. Вывод? Это – народ, а то – нарост. Одно с другим не путаю. Хотя́ в Россию, к таким хочу.
Письмо 131
<нач. ноября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Б.
Мир видишь каким-то расплавленным, точно всё твердое в нем – начиная с гор, кончая гордостью <вариант: от первых до последних>, растопилось, aufgelöst [130], растеклось в об<ъятии> двух. Солнце тех утр я помню жидким, плещущим в горсти.
И сердце течет, волоча сво<и> кам<ни>.
Горячий поток.
Письмо 132
<ок. 6 ноября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Борис, не могу удержаться от соблазна написать тебе два слова о твоем письме в руках и жизни Сувчинского. – «Я никогда не смел думать, что он та́к откликнется». / Нарочно пришел пешком из своего Кламара ко мне в Мёдон (40 мин. ходьбы, больная нога), чтобы известить меня о своей добыче. Да, именно добыче, он всей своей природой добытчик, крупный и нежный хищник, – enjôleur, enrôleur, mangeur, dévideur [131] и – представь себе! – не женских сердец – мужских, и не сердец, а сущн<остей>, – наподобие тех мецен<атов> <над строкой: русских и итальянских> XVIII в., могших только в другом, <над строкой: т. е. в мужчине >. Мне его жалко, всегда и неуст<анно>, не пон<имая>, я убеждена, что он больше, да так и есть. 1) Огромный голос, который презирает, 2) музыкальный гений, которого отринул, [когда-то] первый откликнулся на 12 Блока, п<отом> с Блоком первый зачинал Евразию… Читатель всегда в уровень поэту, даже тебе, даже Рильке, – изумит<ельное> явление, Сезам, с… <над строкой: закр<ойся>> не знаю чем отшвыриваю<щий>, д<олжно> б<ыть> послед<ствие> холод<ного> сердца. Лукавец – льстец – и с такой грустью, с таким иногда огромным вырыв<ающимся> вздохом, вздохом, физически выдающим всю глубину груди и души. И в итоге я ничего о нем не знаю.
Обратное Мирскому, может зараб<отать> мил<лиону> поэтов на 10 милл<ионов> поэм.
Еще: человек, что-то во имя чего<-то> в себе переломивший (убивший?). И яростно на это что-то в другом накидывающийся – самоборчество – богоборчество (боги) – в чем-то мой явный враг, мой скр<ытый> <вариант: тайный> друг. Ты от него не оторвешься (к Мирскому тебя придется прикалывать английской булавкой, да и то оставишь клок), он от тебя не оторвется, вам, конечно, нужно встретиться, письменно и очно – обратн<ая> бездн<а> после Мирского и Маяковского. Верь, поп<робуй>, в кредит. Я бы очень хотела, чтобы вы переписывались, так же, как когда-то не хотела, чтобы переписывались ты и Мирский. Сувчинский явный приток.
Письмо 133
<ок. 12 ноября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Дорогой Борис, моя [черновая] тетрадь меньше стихи, чем письма к тебе. Вот, справа – налево несколько страниц назад, большое письмо тебе о Сувчинском – неотосланное по недостатку времени, т. е. малодушию (время всегда есть, ты это знаешь). В нем я – не бойся – хвалила Сувчинского. А сегодня совсем о другом: об – удивительной всё-таки вещи – что я во всем русском Париже совершенно никому не нужна. Ко мне никто не ходит, никогда. Ходят к С. и в дом, вообще посидеть. [Это, впрочем, было и в советской Москве.] О стихах никто никогда, в последний раз читала стихи Асе, а до этого?? честное слово, не помню. Меня никто не любит и никто не знает, знают стихи (то или иное в том или ином журнале) и знают веселую и резкую хозяйку дома. Вчера ночью я прочла то, что нав<ерное> раньше знала: «un organe – s’atrophie» [132] и тотчас же сказала: сердце. Моему нет работы, в стихах же оно ни при чем. У меня (него) нет пов<одов> ни к [жалости, ни к] расширению, ни к сжатости, я все [дни и] вечера дома, всегда, – и даже книг нет, п.ч. в Мёдоне нет библиотеки, даже приходской, без романов, с путешествиями. Единственный вечерний выход раз в неделю в местный кинематограф, который уже начинает делаться событием. В Чехии были деревья – и концы концов и многое. Была новая, в первый раз полюбленная, русская среда, растравительная и благородная, была переписка с Волконским (заглохла), была моя безнадежн<ая> по<пытка> п<оездки> к тебе. А главное – горы! Дерево, к которому лезешь и которое можно обнять. В лице одной такой березы прощалась со всей Чехией. В Чехии была растрава и тоска. Я Чехию любила, и она меня. Чехия мне дала Мура.
Мёдон? Квартира (там – лачуги), газ (там дым <вариант: чад>) и – дверь, [в которую никто не стучит, а мне не к] с английским замком, в нем всё. В Мёдоне я упорядочена, хожу на рынок, чищу, благополучие <вариант: данные > / просто обязывают. Мой день: утром варка утреннего и снаряжение детей на прогулку – варка обеда – кусочки Федры – дети с прогулки, Мур спать, обед. После обеда: прогулка с Муром – чай, кормежка детей и гостей – приезд С. после съемки – мысли об ужине, кусочки Федры, укл<адывание> Мура, ужин. Вечер: С. в городе (дела и уроки), Аля спит, я – нет, не пишу, – куражу́ нет (фуражу́!). Письма? некому, тебе – только смущать в работе. Книг нет, – в Мёдоне нет библиотеки, хоть приходской – идти некуда, все либо в городе, либо – хуже – дома, у себя дома, а я не хочу ни в какой, хочу из, а никто не хочет, п.ч. дождь и у большинства башмаков нет. Итак, с 9 часов до С<ережиного> поезда (1 час) – [без дела] шью.
Письмо 134
12 ноября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогой мой друг! В том свинстве, что от меня давно ни слова, главное же в то самое время, как от тебя приходит, день за днем, Шарлаховая хроника, виноват не я. Но тороплюсь тут же, в обгон сказанному: эти три пакета такая драгоценность, что никакими словами за хронику тебя не отблагодарить. И сейчас пишу не в ответ на нее, а просто, чтобы ты превратно не истолковала моего молчанья. Много чего сошлось в эти две недели: дряблые, затяжные, как ненастье, обстоятельства. Во-первых, денежная запинка, займы по пятиалтынному (послезавтра, во вторник, все это будет бесследно покрыто блестящим авансом). Куча писем и рукописей (чужих), бесконечных поэм и начинающих посетителей. Словом, нечто такое, что даже и для отказов требует времени, а я, к сожаленью, (за очень незначительным вычетом) гнать не умею и почти всегда вхожу в разбор того, что делать человеку, если его приход к литературе – случайность или ошибка. И если ты решила, что я воспользовался твоей просьбой не писать тебе и сижу за работой, то вообразила сущую небыль. Не пропали же эти две недели оттого, что частью и неизвестным тебе образом были посвящены тебе. Ты легко себе представишь (о других радостях дальше), какую радость доставило мне то, что впервые за эти годы ты заикаешься, или начинаешь думать, или допускаешь мысль о приезде сюда. Что бы я ни сказал дальше, – это душевное событье огромного значенья для тебя, для всех нас и для истинного нашего дня. Это не так легко устроить, и об этой нелегкости уже успел сказать Горький. Однако устраивать это надо, и вероятно, в устройстве этого, в результате, нам удастся преуспеть. Темы этой оставлять нельзя, ты сама дальше увидишь, до чего она носится в воздухе. Но вот я допустил, что завтра или через месяц ты получила бы визу. И знаешь, я первый стал бы тебя просить с приездом повременить. Я бы не поручился, что в случае какого-нибудь процесса, ни волоском не имеющего к тебе отношенья, тебя бы не припутали по периферии каких-то третьих лиц и десятых гаданий, как это тут бывает с целым рядом ни в чем не повинных людей. Для меня, в таком случае, оставалась бы облегчающая возможность сесть вместе с тобой (так или иначе я бы неизбежно пришел к этому), но во всяком случае я не могу звать тебя к таким перспективам. Но тема, тема твоей готовности и желанья, существовать начинает, и чем больше она тут пустит корней, чем они будут разнообразнее, многочисленнее и неожиданней, тем спокойней я буду к месяцу ее осуществленья. – Воспользовавшись моим разрывом с Лефовцами, всякие досужие сплетники стали мне уже передавать невообразимые глупости, будто бы ими обо мне сказанные. Если и не всему этому вздору я верил, то все же у меня было чувство, что они против меня ожесточены, и с ними не встречался. На днях я был посрамлен вдребезги Ник. Асеевым. М.б. он и знал, чем меня можно умилить вконец, до загипнотизированности, но и это соображенье смысла его звонка не умаляет. Он попросил меня принести «Поэму Конца» и «Крысолова», т<ак> к<ак> добился разрешенья написать о тебе в своем годовом отчете о поэзии, в чем до сих пор отказывали мне или предлагали с оговорками, для меня (в отношении тебя) неприемлемыми. Далее он сказал, что принимается за дело о твоем возвращеньи, что говорил уже об этом с Луначарским, но тот будто на стену полез и объявил, что это покамест совершенно невозможно. У Асеева – итальянская виза, он скоро собирается в Италию, где между прочим хочет о том же поговорить с Горьким и так ему прочесть твои поэмы, что потом его и убеждать-то особенно не придется. Читает же он тебя отлично. Детское отступленье, которое тут же сделаю, прямо к делу не относится, но считаю нужным, чтобы ты знала впрок, что я вас не ревную или это чувство побеждаю, и что чем живее вы друг друга воспримете, тем это будет благоприятнее в отношении множества вопросов, т. е. в отношении житейских перспектив, а м.б. и более глубоких, т. е. перспектив поэтического сцепленья. Клянусь тебе, что говорю совершенно чистосердечно, и умоляю тебя, в этой связи, мифов на мой счет не строить и какой-то логики вещей, тебя касающихся, с этой стороны не ограничивать. Он читал мне свою поэму, написанную к десятилетью (из истории сибирской партизанщины под Колчаком), и множество мест в этом чтении показались мне прекрасными. Я все еще не мог получить ее на руки. На днях он получит авторские, получишь, вероятно, и ты. Чтобы покончить с этой тирадой, вставляю упущенную мелочь. В прозе, которую посвящаю памяти Рильке (полувоспоминанья, полуфилософия), будет о «Поэме Конца» как о событии, т. е. будет о всей силе случившегося той весной, и, говоря объективно, это будет действительнее статьи. Пишу же я все это, т. е. пока еще думаю написать, так, чтобы мне не могли отказать в помещеньи. Т. е. это вроде того «так», как собирается тебя прочесть в Сорренто Асеев. Ты не можешь себе представить, как взволновал и обрадовал меня твой намек о книжке для С.Я. Ты точно угадала мое желанье и мне эту возможность подарила. Это ведь движенье сродни мысли о России, т. е. это – то растягиванье души, при котором легче становится и тебе самой и тем, которые больше всего тебя любят. Не хочу отбирать слова и уяснять мысль: догадайся о ней, если она непонятна. Летом я писал Мирскому о том, как мне всегда бывает больно оттого, что ты идешь (в творчестве и в жизни, т. е. по департаменту поступков, ах, все это не то, но ты поймешь) сплошной и постоянной высотой невознаградимости. Т. е. мне больно не как поэту, а как Боре, которому бы хотелось, чтобы тебе было весело и вольно, и так далее. Тут, в быту и в распределеньи планов надо больше любить и щадить себя, нежели это в твоих нравах. Милая Марина, прости за глупость, с которой я об этом говорю, не читай моих слов построчно. – Так вот, о книжке для Сережи. Именно ради него я тотчас после твоих слов побежал в склад Госиздата и достал несколько новых экземпляров, так что ряд лиц, которые их получат, того не зная обязаны ему, человеку, который делит и разделил с тобой жизнь. Опять глупости. (Ты знаешь, я сейчас пишу, сильно волнуясь.) Да, так вот. С 4-го числа лежит эта стопка бандеролей, и я все еще не имел возможности их отослать по временным, до смешного сошедшимся, затрудненьям. Больше всего за ними меня раздражала именно эта невозможность отозваться моментально на твое предложенье, но скажи С.Я., что, прочитав тот кусок Шарлаховой хроники, я моментально побежал на Никольскую и по возвращеньи домой тотчас ему книжку надписал. Два другие экземпляра пусть распределит по своему усмотренью. Горячо благодарю тебя за письмо отцу и за твои слова на всю эту тему. – Утопаю в мелочах, которые надо сказать тебе, и не могу себе позволить расписаться о хронике, т. е. о том, как она обняла мое сердце, и как ты добра, щедра, и как я люблю тебя. – Значит, опять о мелочах. Родная Марина, вдруг напросился и подобрался новый источник, не тот, о котором Ася говорила Сереже и потом тебе, и об этом в другой раз, а пока короткий рассказ. Летом 1925 г. нам было так трудно, что просто на переезд с дачи в город не было (и «дача»-то была снята на займы, просто – крестьянская изба). Тем летом я что-то пробовал для детей писать (хорошо шла детская литература, и те, кому она удавалась, богатели). У меня ничего не выходило. По этому поводу я был в переписке с Корнеем Чуковским, который до небес превозносил меня как поэта, но ничего устроить не мог. И вот мы мокли под дождями, крепкие земле, по причине задолженности, и не могли сдвинуться и переехать в город. Раз как-то жена, отправясь в Москву за очередной десятирублевкой, возвратилась, сияющая, с известием, что «все устроилось», и протянула пакет с 10-ю ф<унтами> стерл<ингов> неведомого происхожденья, поданный ей утром, на городской квартире, неизвестной ей курьершей из Упр<авления> Курской Ж<елезной> Д<ороги> (!!!). Отдаленного намека на разгадку она, очевидно, ждала от меня, и только в таком чаяньи приняла деньги, из которых половину уже успела разменять в банке. В глубине души я порадовался, что меня не было в городе, п.ч. я наверное бы от денег отказался как от заведомой ошибки.