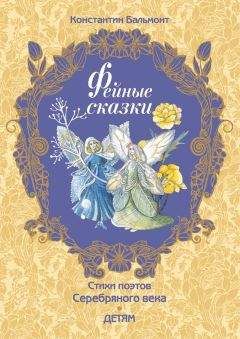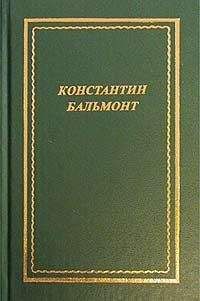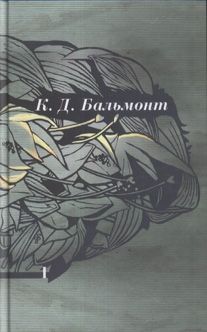Павел Куприяновский - Бальмонт
Мотив «безумия» («святого безумия») родной страны по-разному осмыслялся в послеоктябрьской лирике З. Гиппиус, М. Волошина. В стихотворении «К безумной» Бальмонта сливаются воедино темы всеобщей «вины», «греха» и «мести»:
Мы отвергли своих побратимов,
Опрокинули совесть и честь.
Ядовитыми хлопьями дымов
Подойдет достоверная месть.
В свое время молодой поэт громко заявлял о своем антиурбанизме: «Я ненавижу гул гигантских городов» («Под северным небом»). В «Горящих зданиях» неприятие городской цивилизации принимало космический характер. В «Мареве» город предстает как «чужой» («В чужом городе»), как «призрак жизни и страстей» («Остывший город») — в противоположность родному:
Мне не поют заветные слова, —
И мне в Париже ничего не надо,
Одно лишь слово нужно мне: «Москва».
«В Париже дымном» он обречен смотреть «на мир в окно чужое», и ему сопутствует в этом новый в его поэтическом мире иронически окрашенный персонаж — «попугай»:
В соседнем доме такой же узник,
Как я, утративший родимый край,
Крылатый в клетке,
Весь изумрудный
Попугай.
«Солнечное» сердце поэта сожжено тоской, остался только лик «ущербной луны», и сердце поэта готово к встрече с Белой Невестой — смертью:
Мне нигде нет в мире больше места,
В каждом миге новый звон оков.
Приходи же, Белая Невеста,
У которой много женихов.
Позднее образ Белой Невесты появится в автобиографическом рассказе Бальмонта «Белая Невеста» (книга «Воздушный путь»).
Во «сне» поэту является гоголевская птица-тройка (стихотворение «Сон»), и он не может ответить на извечный русский вопрос «Что делать?»:
У меня в моих протянутых руках
Лишь крутящийся дорожный серый прах.
И не Солнцем зажигаются зрачки,
А одним недоумением тоски.
Я ни вправо, я ни влево не пойду.
Я лишь веха для блуждающих в бреду.
Бессильный заклясть злобу, голод, людскую слепоту поэт обращается к пророчествам Библии (стихотворения «Забытая притча», «Неизбежное», «Возмездие», «Актеры Сатаны»). Ему кажется, что бесовские силы, воцарившиеся в родном краю, — страшное испытание, предсказанное Книгой Бытия:
Это праздник Сатаны,
Коготь зверского ума.
Для растерзанной страны
Голод, казни и чума…
Апокалипсис раскрыл
Ту страницу, где в огне
Саранча со звоном крыл,
Бледный всадник на коне.
Сквозные символы бальмонтовской лирики — Земля и Бездна — в завершающих стихах «Марева» приобретают апокалиптический смысл:
Земля сошла с ума. Она упилась кровью,
Пролитой бочками.
………………………………
Дух благостный засох. Сгорели все растенья.
И если есть еще движенье жестких губ,
Молись, чтоб колос встал из бездны запустенья.
Первая эмигрантская книга Бальмонта «Марево» лишена была оптимистического заряда, но он с новой силой заявит о себе в его следующих сборниках.
В Бретани поэт пережил творческий подъем. Это сказалось в написанном там автобиографическом романе «Под новым серпом». По тональности роман — прямая противоположность книге «Марево». Воспроизводя в романе картины усадебной жизни 60–70-х годов XIX века, Бальмонт погружается в воспоминания своего детства и будто зовет читателя оглянуться на старую Россию, где было так много красоты и доброты. «Это — видение далекого прошлого, усадьба времен уничтожения крепостного права, — писал Бальмонт Екатерине Алексеевне. — Дальнейшие главы — мое детство. Во второй и третьей частях я хочу нарисовать провинциальное захолустье и Москву последних двадцати лет 19-го столетия, и предчувствия революции. <…> Мне доставляет большую радость отдаваться художественному ясновидению, и многое в самом себе мне становится впервые понятно, после того, как я вызвал в своей душе юные лики моей матери, моего отца, и картину всей их обстановки».
«Роман-автобиография» — так определял сам автор жанр произведения «Под новым серпом». В нем легко угадываются прототипы персонажей (о чем уже говорилось в первой главе). Природа, быт, характерные типы эпохи выписаны с убедительной достоверностью. Но любовный треугольник в романе наивно традиционен, сюжет растворен в подробных описаниях, в произведении господствуют «поток сознания», лирико-импрессионистическая стихия. Это верно подметил в рецензии А. Бахрах (Дни. 1923. 9 сентября), который писал, что «Под новым серпом» — «большая без малого лирическая поэма, вся насквозь пропитанная вольным, а должно быть еще чаще и невольным поэтизированием автора-поэта». Однако с рецензентом трудно согласиться в том, что Бальмонту чужда проза. Нет, это проза, но написанная в стилистике поэта-лирика.
Проза заняла в эмигрантский период творчества Бальмонта не менее заметное место, чем поэзия. Он пишет рассказы, очерки, эссе, мемуары, критические статьи, литературные портреты, рецензии, создает своеобразный жанр интервью у самого себя и т. д. Роман «Под новым серпом», выпущенный берлинским издательством «Слово» в середине 1923 года, стал одним из первых автобиографических жизнеописаний в послереволюционной эмигрантской русской литературе. Этот жанр вскоре приобрел необычную популярность, так как память прошлого оставалась для эмигрантов единственной связью с Россией. Однако в контекст более или менее изученных «мемуарных рефлексий» Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Михаила Осоргина, Алексея Ремизова роман Бальмонта пока не включен.
В Бретани Бальмонт подготовил и сборник рассказов «Воздушный путь». Он вышел в берлинском издательстве «Огоньки» в том же 1923 году. В сборник включено большинство произведений, написанных до революции: «Воздушный путь», «Ревность», «Крик в ночи», «Ливерпуль», «Васенька», «На волчьей шкуре», «Солнечное дитя». Все они, кроме рассказа «На волчьей шкуре», были напечатаны. По-видимому, тогда же была написана «летопись» «Простота» (публикация неизвестна). К ним Бальмонт присоединил еще четыре рассказа, два из которых были опубликованы в эмигрантских изданиях: «Лунная гостья» (Сполохи. 1922. № 4) и «Белая Невеста» (Современные записки. 1922. № 7). Места публикации рассказов «Дети» и «Почему идет снег» нам, к сожалению, незнакомы. Бальмонт этой книгой впервые заявил о себе как рассказчик, она стала фактом эмигрантской литературы.