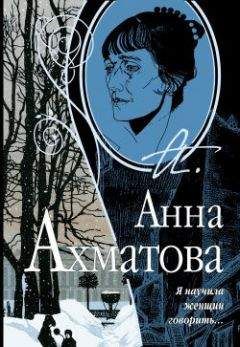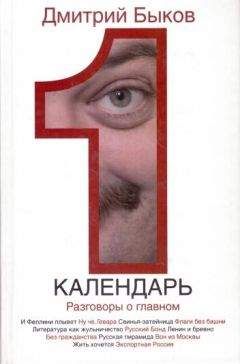Дмитрий Бобышев - Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2
– Такая клёвая фактура получалась, через день-другой затвердевала, и – хорошо!
Эти разговоры, чтения, байки и, конечно же, возлияния продолжались и продолжались, пока не сказал я:
– Извини, Олежек, я в таком режиме гулять не умею. Мне – хватит.
И что ж, нисколько не обидевшись, мой трёхдневный постоялец деликатно исчез.
* * *Вскоре появился у меня гость не столь экстремальный и экзотический, а всё ж весьма живописный и обаятельный. Поэт-смогист (СМОГ: Самое Молодое Общество Гениев) Юрий Кублановский, волжанин из Москвы. С внешностью артистичной, но не богемной. В стихах – мастер переливающихся эпитетов. Православный. И такой свойский, как будто мы знакомы всю жизнь (за вычетом дюжины лет, на которую он меня моложе). Но и на будущее было нам припасено немало красочных встреч, стихотворных посвящений, дружественных статей и поминальных тостов: на могиле Ахматовой в заснеженном Комарове и у надгробия Пастернака в летнем Переделкине, а уж заздравных – без счёта на моей тогда ещё никому неведомо приближающейся свадьбе. А позднее – чокались мы кружками в мюнхенских пивных садах, бокалами в парижских погребках, сдвигали стопки на берегу Оки в Поленове и Тарусе, опрокидывали рюмку-другую в столичных клубах и прикладывались из горла на борту прогулочного судёнышка в дельте Невы...
И не столько сами пирушки, как ни веселы и уместны они оказывались с таким сотрапезником или даже собутыльником, как Юра, грели и радовали душу, сколько тон внимательного и участливого понимания, который между нами установился сразу по самым главным темам, по приоритетам ума и сердца. Это были, конечно, поэзия и Россия.
Кублановский не только изъездил глубинную Русь, но часто путешествовал по северным брошенным монастырям, начиная с Соловецкого и южнее, водил сезонно экскурсии в те из них, где теплились реставрационные работы и туризм. Я ездил и хаживал там раньше, когда туризм ещё не развился, то есть оставался странничеством, если не паломничеством по опустелым святыням, но впечатления наши опять же совпадали: изнасилованная природа, обесцерковленные пейзажи, разорённая культура – прямо указующие на своих супостатов и разрушителей, как в Юрином стихотворении памяти замученного Николая Клюева:
Вот бы этих комиссариков,
шедших с грамотой к крыльцу,
растереть бы, как комариков,
по усталому лицу.
Чтобы написать такую инвективу властям, нужна гражданскую смелость, и ещё большая отвага (чисто литературного свойства) требовалась, чтобы признаться в страхе перед ними, – впрочем, совершенно обоснованном.
Пахучи «Правд» и «Известий» полосы,
броваст антихристов иерей.
И шевелятся от страха волосы
на голове, голове моей.
Но если выбирать самый характерный мотив в его стихах того времени, это оказалась бы любовная сцена где-то посреди России на фоне разрушенного или осквернённого храма. Она могла происходить в Лявле, Куевой Губе, Груздеве или Дюдькове, либо в ином месте с уютным для русского слуха названием, даже в Москве, но с неизменным перемежением любви и страха – страха метафизического перед ежеминутно совершающимся христонадругательством в стране и любви к подруге, любви как попытке сотворить малый личный храм, спасение и опору в жизни. Во многие, очень многие стихотворения были вкраплены приметы духовного одичания, такие жгучие и такие острые, что при чтении вызывали у меня восхищение этой точностью и страх за судьбу дерзкого автора.
Перед самым своим отъездом Геннадий Шмаков, знаток поэзии Михаила Кузмина, сделал ряд добавлений в моём экземпляре «Форели, разбивающей лёд», вписав туда недостающие строфы, вычеркнутые в своё время цензурой. И поэма, оснащённая новым трагизмом, зажила для меня отнюдь не комнатной жизнью:
Затопили баржи в Кронштадте,
расстрелян каждый десятый.
Юрочка, Юрочка мой,
дай Вам Бог, чтоб Вы были восьмой.
Эти строки я часто повторял Кублановскому.
Страх... Время от времени он наплывал волнами, часто от разговоров с такими же напуганными друзьями обо всех этих прослушках, слежках, стукачах... Большей частью – страх нагнетённый, мнимый, будто нас и в самом деле облучали им из каких-то секретных орудий. И чем смелей, чем независимей держишься, тем поганей тебе это трусливое чувство. Да я и не верю в бесстрашие – для меня оно равно бесчувствию, а человек ведь недаром наделён инстинктом ощущения опасности.
У Юры было достаточно причин нервничать: он в то время ввязался в создание полуподпольного альманаха с довольно-таки ресторанным названием «Метрополь». Правда, с ударением на первое «о». Затея, в ресторане и зародившаяся, исходила от Василия Аксёнова и объединяла самых разных участников – и членов Союза писателей, и неофициалов: такой странный симбиоз удовлетворял тех и других. Все ждали скандала и даже рассчитывали на него, следуя принципу «пан или пропал».
О готовящемся я узнал ещё раньше от Рейна. Он предложил передать ему стихи для альманаха, называл громкие имена, видя в них залог верного успеха.
– Не знаю, мне как раз эта комбинация и не нравится. Кроме того, сугубо между нами: я печатаюсь в «Континенте», – сообщил я ему. – Вас, я имею в виду редколлегию, если она существует, такое устроит?
– Нет. Тогда – всё. Авторы «Континента» для нас – уже слишком.
«Континент» был страшилищем даже для них.
Скандал таки разразился, и если это входило в планы Аксёнова, то они осуществились. Он покинул страну на гребне большой шумихи. Другие «имена» были защищены собственной известностью. Вознесенский, например, укатил представлять «людей доброй воли» куда-то в Южную Америку или даже дальше, в Антарктиду, к пингвинам... Остальным достались более крупные неприятности. Кублановского попёрли со всех его малодоходных, но всё-таки интеллигентских работ, он устроился церковным сторожем под Москвой... Я навещал его там. Однако следователь ГБ тоже приходил «беседовать» в его сторожку.
Когда Юра приехал ко мне в следующий раз, я повёл его познакомиться с Леной Пудовкиной. Мы посидели втроём, почитали стихи, выпили. Чёрные вишенки глаз у Лены заблестели. За хорошим разговором и думать забыли о всяких страхах. В весёлом настроении вернулись ко мне на Петроградскую. Когда Юра скинул пальто, а я свою куртку на подозрительном, но тёплом меху, я вдруг заметил чёрную шаль, лежащую на полу.
– Что это? Кто-то здесь побывал в наше отсутствие?
– Это – чёрная метка. Не иначе как ГБ!