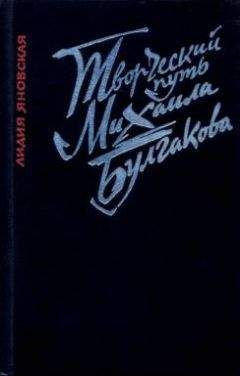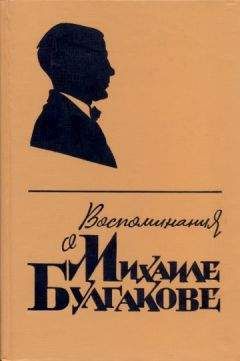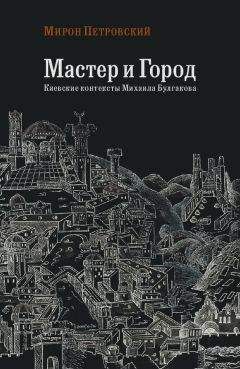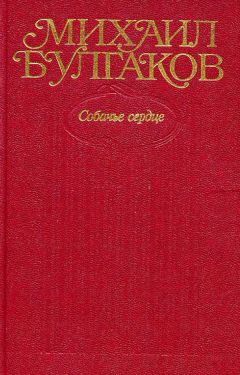Лидия Яновская - Записки о Михаиле Булгакове
Вот — смысл. И никакой другой идеи в такой публикации быть не может.
И потом — стиль! Нельзя так писать: «Я получила письмо...»
— А как? — заинтересовалась я.
В комментарии-исповеди — ибо если вы хотите, чтобы читатель поверил вам, писать нужно только искренне и исповедально, иначе нечего браться за перо, — было сказано, что я получила от К. М. Симонова письмо и взяла себя в руки...
— Нужно писать: «Мною было получено письмо»! — сказал мой юный оппонент.
— «И мною было взято себя в руки»? — не выдержав серьезности тона, расхохоталась я.
Ах, не смейтесь, не смейтесь над редактором! Он многое может простить, но отсутствие трепета перед его редакторским могуществом — никогда!
Остатки милоты как-то разом слетели с моего собеседника, и я увидела просто злобу и болезненное самолюбие неталантливого человека. Передо мной был один из «железных мальчиков» 80-х годов. Я встречала их в московских редакциях и всегда терялась, когда приходилось разговаривать с ними. Красивые и образованные, они сначала умело устраивались на должности в престижных издательствах и журналах, а уж потом, заручившись связями и укрепившись в литературе обеими ногами, становились журналистами, литературными критиками, даже писателями. Они говорили по-английски, были жестки, беспринципны и совершенно уверены в том, что они — новые. А мне казалось, что я их уже видела — в трагическом 1949 году моей юности. Правда, те, тоже холодные и беспощадные, не были так красивы и не умели по-английски.
От этой публикации очень не хотелось отказываться. Какое-то время я барахталась, соглашалась на сокращения, пробовала объясниться с главным редактором. Все усилия были напрасны. Я нарушила первую заповедь советской редакции — послушание редакторскому перу, и знаменитый журнал «Дружба народов» отныне был для меня закрыт. Непоправимо и навсегда.
Деньги за поездку мне уплатили. Помнится, ровно половину того, что на самом деле ушло на проезд. Юный Архангельский, проявив недюжинную расторопность, сделал все, чтобы эта моя рукопись вообще никогда не увидела света. Но и я давно уже была не ребенок и выдерживала не такие предательства. Страна грезила «перестройкой», подымала голову провинциальная пресса, и рукопись — в отличие от той, посвященной черновым тетрадям «Мастера и Маргариты», — не погибла. Мне удалось ее опубликовать в журнале «Урал», и, судя по окрику, который я немедленно получила со страниц «Литературной газеты», ее прочитали не только на Урале...
А все-таки, может быть, следовало склониться перед этим «было взято себя в руки», не заметить еще тридцати девяти поправок в том же роде и стать автором в знаменитом журнале? Как это помогло бы мне в течение многих последующих лет — и в России, и в Израиле... И может быть, спасло бы другие работы.
Ну, ладно, «железные мальчики», вздорные, несведущие редакторы и т.п. и т.п... Но неужели же не было славных редакторов, к которым привязывалось сердце?
Были, ох как были! В 1987—1989 годах я готовила двухтомник прозы Михаила Булгакова для киевского издательства «Днипро». Впервые — двухтомник: никогда дотоле в Советском Союзе Булгаков не издавался более чем в одном томе. И — впервые после смерти Е. С. Булгаковой — с текстологической подготовкой. Это значит, что читателям предстояло получить наконец — из моих рук — сотни страниц подлинной булгаковской прозы: сверенные с оригиналами романы «Мастер и Маргарита» и «Белая гвардия», повести «Собачье сердце» и «Тайному другу» и многое, многое другое.
У меня был прекрасный редактор — Юлия Андреевна Мороз. Мне нравилось в ней все — ее украинская, легкая в движении, дородность, спокойная несуетливость, природное достоинство. И безотказная работоспособность. И даже то, что ее маленький младший сын, когда я звонила ей домой, отвечал по телефону на мелодичнейшем украинском языке: «Та ii ще не-ма-е...»
Она была редактором двуязычным: «Днипро» выпускало книги и на русском и на украинском языках. И это было большой удачей.
Дело в том, что в тот год я добралась наконец до немногих уцелевших в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина корректур «Белой гвардии» и из корректур этих — неполных, разрозненных, но сохранивших следы авторской правки — стало волнующе прорисовываться истинное отношение Булгакова к украинскому языку.
Я давно угадывала присутствие украинской мелодики в авторской речи «Белой гвардии» — не во всей, а в тех главах и страницах, где выступала на сцену украинская вольница — петлюровщина. Как Булгаков добивался этого — до сих пор не понимаю: собственно украинских слов в авторской речи романа как будто нет... почти нет... разве что: «Курились белые хатки в деревне Попелюхе, и выезжал строй полковника Козыря сабелюк на четыреста...» — где слово «курились» как-то неуловимо звучит чуть более по-украински, нежели по-русски, и в слове «сабелюки» — украинский суффикс... Да еще: «повсюду по тропам и путям и безудержно просто по снежным равнинам чернела и ползла и позвякивала конница...» — где русское слово «просто» звучит с такой простотой потому, что по-украински оно означает: «напрямик»... Или такое выражение: «Слава! — гукал Гай перелесками...» — можно прочитать по-русски: «гу-кал» (от русского глагола «гукать» — см. Даля), но читатель, хотя бы слабо, на слух, на уровне улицы знакомый с украинским языком, делая глуше «г», читает: «гукал» (от украинского слова «гукати»).
Этим своим радостным ощущением двуязычия «Белой гвардии» я попробовала поделиться с Еленой Сергеевной Булгаковой — еще в 60-е годы. Увы — редкий случай взаимного непонимания, — она решительно отвергла мою гипотезу. Впрочем, ее можно было понять: мелодия Украины в «Белой гвардии» загадочным образом не нарушает русского литературного языка и читатель, никогда не слышавший украинскую речь, — а Елена Сергеевна родилась и выросла в Риге — не улавливает эту мелодию.
(А может быть, все-таки улавливает — подсознательно? У Булгакова многое работает на уровне подсознания.)
Я же эту мелодию слышала, и никто не мог убедить меня в том, что ее нет. Понимала, что Булгаков, которого украинская критика, почему-то оскорбленная его популярностью, вдруг начала злобно обвинять в шовинизме, на самом деле и знал и любил украинский язык.
А между тем в прямой речи романа были поразительные провалы.
И дело не в том, что реплики персонажей, говорящих по-украински, под давлением всего массива романа, написанного на русском языке, несколько русифицированы. Реплики эти не столько вводят другой язык в роман, сколько передают звуковые удары, звуковой колорит другого языка. Я бы даже сказала, что украинские реплики в романе не приведены, а отражены музыкально; абсолютная точность, цитатность их не требовалась.