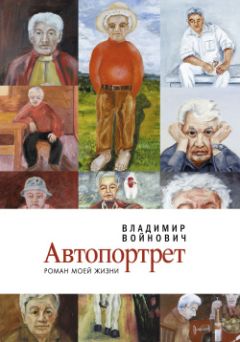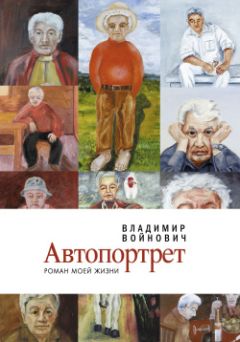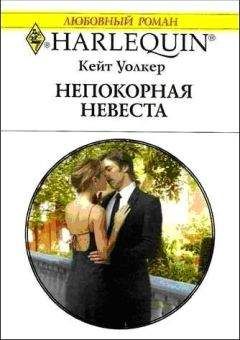Владимир Войнович - Автопортрет: Роман моей жизни
Не проходите мимо
Речь на вечере шла о человеческом достоинстве и гражданском мужестве. Публика призывалась не проходить мимо отдельных, редких, но все еще, к сожалению, бытующих в нашем обществе таких нетипичных пережитков прошлого и негативных явлений, как пьянство, хулиганство, нетоварищеское отношение к женщине. Хулиганство – это болезнь, с которой должна бороться не только милиция, но все общество. Борис Егоров прочел на эту тему фельетон. Он подавался как очень смешной, но никому таким не показался, хотя Егоров добросовестно жестикулировал и голосом управлял так, чтобы подчеркнуть наиболее достойные смеха или по крайней мере улыбки места. Роберт Рождественский ознакомил публику с длинным стихотворением о наступающем над какой-то мелкой речушкой Иня рассвете. Не успел он это прочесть, как вскочил гражданин в красном свитере и с очень буйно вьющимися седыми волосами.
– У меня есть вопрос к товарищу Рождественскому, – сказал он голосом, похожим на ленинский в исполнении Бориса Щукина. Да и манеры у него были из того же кино. – А скажите, пожалуйста, – он выкинул вперед руку, словно с броневика, – если вы говорите о речке, над которой наступает рассвет, то это не значит ли, что еще совсем недавно над этой речкой царила ночь?
Рождественский почему-то заволновался, стал заикаться и шепелявить одновременно.
– Ну, естественно, над этой речкой, как и везде, имеет место смена времени суток. Там тоже бывают утро, день, вечер, ночь, рассвет…
– Это все понятно, понятно, – деловито перебил слушатель. – А ваше стихотворение носит прямой или аллегорический характер? А если аллегорический, то не хотите ли вы сказать, что ночь царила не только над речкой, не только над этим маленьким, безобидным и узким речным потоком, но и над гораздо более обширными географическими пространствами?
В публике прошел ропот. Все сразу поняли, что вопрос не столько литературного, сколько юридического характера и имеет отношение к еще не отмененной к тому времени статье 58 Уголовного кодекса – антисоветская пропаганда и агитация. Рождественский потел и заикался. Он начал объяснять, что стихи – это вид искусства, которое нельзя понимать буквально. Слушатель резонно возразил, что он как раз не буквально и понимает. Тут Рождественскому на помощь пришел Егоров.
– А вам не кажется, – спросил он дотошного слушателя, – что ваши догадки – плод вашего собственного и странного воображения? Вы не могли бы мне сказать, кто вы?
– Я – советский человек, – сказал гордо кудрявый.
– Что значит – советский? Мы тут все не турецкие. Как ваша фамилия и чем вы занимаетесь в рабочее время?
– Это неважно. Я просто слушатель.
– В каком смысле просто? – настаивал на своем Егоров. – У каждого просто слушателя есть имя, фамилия, профессия, место работы, дирекция, местком, партком…
Пока он говорил, вопрошатель стал передвигаться к выходу, махнул рукой и скрылся за дверью.
В дело вмешался Григорий Михайлович.
– Вот оно, лицо анонима, – произнес Левин, указывая на дверь. – Вот он, мещанин, который мутит воду, призывает всех к ответственности, а сам чуть что уходит в тень. Именно о таких людях я и собирался сегодня говорить… Недавно в редакцию «Литературной газеты», где я временно замещаю Огнева…
Тут я быстро глянул на соседку и попытался понять, не удивляет ли ее фамилия Огнев, не нахмурила ли она брови в недоумении, мол, кто такой Огнев, но она ничего не нахмурила и продолжала смотреть на сцену, как будто Огнев был для нее такой же известной личностью, как Толстой или Чехов.
Между тем Левин продолжал свою речь: о том, что в редакцию, где он замещает Огнева, пришло письмо без подписи и, разумеется, без обратного адреса. «Ваша газета, – писал аноним, – постоянно выступает за то, чтобы люди, сталкиваясь с проявлениями хулиганства, не проходили мимо, вмешивались и давали отпор, а не дожидались милиции. А что значит дать отпор? Вот хулиган толкнул девушку, вы хотите, чтобы я кинулся ей на помощь? А мне тот же хулиган воткнет нож в сердце. А я тоже человек. У меня есть семья, дети, и сам я тоже хочу жить…»
Сначала Левин читал, сидя за столом. Но потом распалился, вскочил, подбежал к краю сцены и, размахивая цитируемым письмом, стал выкрикивать что-то гневное. Об этих самых анонимах, лишенных гражданских чувств и ответственности за свою страну. О мелких людишках, которые забились в своих углах и заботятся только о личном удобстве и своем мещанском благополучии.
– Писатель Бруно Ясенский однажды правильно написал: «Не бойтесь врагов, они вас могут только убить. Не бойтесь друзей, они вас могут только предать. Бойтесь равнодушных. С их молчаливого согласия, – Левин поднял голос до самой высокой ноты и завертел письмом так, словно ввинчивал его в небо и сам с ним пытался ввинтиться, – совершаются предательства и убийства». – Левин выдержал паузу и продолжил голосом тихим, усталым и разочарованным: – Эти замечательные слова, как ни к кому другому, относятся к этому вот, – поднял письмо и указал им в сторону двери, – анониму.
Заключительным пассажем он как бы идентифицировал мерзкого анонима и вычислил в нем того кудрявого в красном свитере, который столь трусливо бежал, не открыв своего имени. Именно к нему относились слова Бруно Ясенского.
«И ко мне тоже, – честно подумал я. – Ко мне эти слова тоже и даже прямо относятся».
Вспомнилось Запорожье, шестой поселок, парк, танцплощадка и бессмысленно жестокие драки, случавшиеся возле нее. Когда местный бандит Грек со своей шпаной без всякой реальной причины нападали на кого-то одного и всей компанией или, по фене, «кодлой» били жертву чем попало: сначала руками, потом ногами и каждый бьющий старался попасть в зубы, в глаз, в печень, чтобы если не убить, то изуродовать, превратить в калеку. При этом все до единого свидетели проходили мимо, втянув головы в шеи, и каждый в отдельности понимал, что если он сунется на помощь лежачему, то и сам ляжет рядом, а всякие слова, что если бы мы все, как один, остаются словами. Это они все как один, а мы, проходящие мимо, проходим в одиночку, пока нас самих в одиночку не бьют.
Адам Христофорович Тишкин
Вечер завершился. Егоров и Рождественский немедленно скрылись, а Григорий Михайлович Левин сошел к народу, который его окружил. Ему были тут же рассказаны страшные истории. Старуха вечером, не очень даже поздно, выносила мусор и прямо возле мусорного контейнера была изнасилована группой подростков. Она кричала, соседи слышали, но никто-никто, вы представляете, совершенно никто не пришел на помощь. «А возле нашего дома, – сказала полная дама, – четыре телефонные будки, и в каждой трубки сорваны, а на полу большие кучи наложены, вот вам и вся культура». – «Таких людей надо расстреливать», – заметил на это стоявший рядом с дамой седой ветеран, но непонятно, кого он имел в виду – даму или тех, кто накладывал кучи. Другой персонаж, помоложе, пытался у Левина выяснить, а что делать на улице курящему культурному человеку при совершенном, можно сказать, отсутствии урн. «Скажите, – горячился он, – вот я иду по улице, покурил, надо выкинуть окурок, а урны нет ни одной. Что мне делать с этим окурком: положить в карман? Проглотить? Что, скажите?»