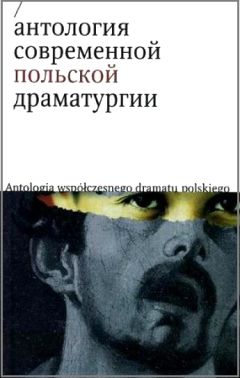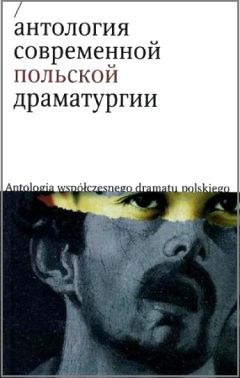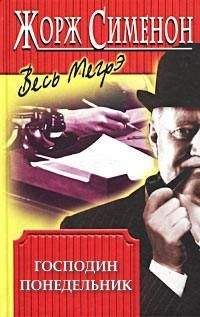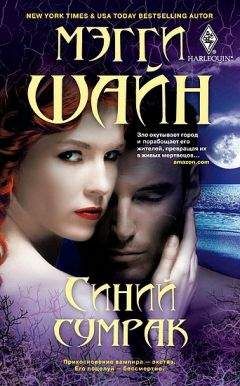Николай Савинов - Жорж Бизе
Ничего подобного. Второй акт прошел, как и первый, без единой демонстрации целомудренного возмущения, которой так опасался Дю-Локль. В третьем акте интродукция и сцена гадания произвели еще больший эффект. В четвертом акте финальный дуэт и смерть Кармен увлекли публику, и когда опустился занавес, аплодисменты были адресованы и композитору, и исполнителям. Тем большее удивление охватило присутствующих — удивление, несколько сдерживавшее проявления их восторга. Эти люди, казалось, были поражены тем, что получили подобное удовольствие. Но тем не менее они были довольны и если бы не знали о холодном приеме премьеры, выразили бы, наверно, свои чувства с еще большей горячностью. Я был восхищен — но все менее понимал, что же все-таки произошло на том, первом спектакле. Мои друзья, которым я не мог отказать ни в проницательности, ни в симпатии к Бизе, говорили о полном провале, я же присутствовал при успехе.
…Однако когда наутро Бертон развернул газеты, он увидел все те же нападки на гениальную оперу: всюду говорилось лишь о первом спектакле.
Бертон встретил Бизе на улице и рассказал ему о впечатлении, полученном 5 марта. Бизе слушал, глядя ему в глаза, не перебивая. Но когда выслушал все, даже не улыбнулся в ответ и снова заговорил об уничтожающих отзывах прессы.
— Я возразил, — рассказывает Бертон, — что они не в ладах с приемом второго вечера. Он молчит. Черты его лица были мертвы, словно мраморные. Он лишь время от времени сжимал мои руки — и я чувствовал, какая буря страстей кроется под этим показным стоицизмом. Наконец, он пожал плечами и сказал: «Быть может, они все же правы!» Стиснул мне руку — и отошел.
…Феномен этого вечера волновал и продолжает волновать многих. Через двенадцать лет после премьеры «Кармен» об этом размышлял и Мопассан:
— Я не могу бывать в театре, не могу присутствовать на публичных торжествах. Я сразу чувствую странное, невыносимое недомогание, ужасное нервное раздражение, словно мне приходится напрягать всю свою силу для борьбы с неотразимым и таинственным влиянием. И я действительно борюсь с душой толпы, пытающейся проникнуть в меня… Качества умственной инициативы, свободы суждения, мудрой рассудительности и даже проникновенности, свойственные человеку в одиночестве, обычно пропадают, как только этот человек сливается с множеством других людей… Народное выражение гласит, что «толпа не рассуждает». Но почему же толпа не рассуждает, если каждый отдельный человек в толпе рассуждает? Почему толпе свойственны непреодолимые побуждения, хищные желания, глупые увлечения, которые никто не остановит, и почему она, поддаваясь этим необдуманным увлечениям, совершает поступки, которые ни один из составляющих ее индивидов не совершил бы?.. Вечером каждый, вернувшись домой, спросит себя, что за безумие охватило его, внезапно заставив изменить своей природе и своему характеру, и как мог он уступить этому хищному побуждению? Дело в том, что он перестал быть человеком и сделался частью толпы… Этой тайной должна быть объяснена столь специфическая духовная природа зрительных зал, такое странное расхождение между публикой генеральной репетиции и публикой премьеры и между публикой премьеры и последующих спектаклей, изменение впечатлений от вечера к вечеру, ошибка общественного мнения, осуждающего такие произведения, как «Кармен», на долю которых впоследствии выпадает громадный успех.
…Были, однако, люди, стоявшие выше толпы и продажных писак, люди, чей голос был бы услышан, к мнению которых отнеслись бы с вниманием, — люди, чей высокий авторитет мог бы остановить грязный газетный поток. Но ни Гуно, ни Тома, ставший директором Парижской консерватории, ни Рейе, сотрудничавший в нескольких влиятельных органах прессы, не спешили высказать свою точку зрения. Правда, Рейе все же упомянул о премьере — но как! «Нужно ли делать сейчас анализ партитуры «Кармен»? Читатели — я это знаю — не нуждаются в таком виде оценок, который требует употребления технических терминов… Я предпочитаю перечислить те сцены, которые особенно тепло были приняты публикой, и те, которые были приняты хуже». Массне, в два часа ночи, сразу после премьеры, написал Бизе письмо, которое в этой трагической ситуации можно оценить лишь как бестактность, если не откровенное издевательство: «Как вы должны быть сейчас счастливы! Ведь это большой успех! Когда мне выпадет удача повидать вас, я расскажу, какую радость вы мне доставили — и эта радость зачеркивает известное огорчение, которое я испытал, оказавшись забытым вами и г. Дю-Локлем в отношении билетов. Но у вас, должно быть, отбою не было от просьб ваших друзей! А тут еще и я докучаю! Еще раз браво от всего сердца! Ваш преданный друг Ж. Массне».
Но и преданный друг не счел нужным поднять голос в защиту оклеветанного произведения.
Сен-Санс не был на премьере — но после четвертого представления он сообщил Жоржу Бизе: «Наконец-то я увидел «Кармен». Нахожу ее чудесной, говорю вам истинную правду».
Однако и он ограничился только частным письмом.
Пылкий, темпераментный, благодарный за каждое доброе слово, Бизе в эти дни, кажется, далек был от мысли, что друзья, ради успеха которых он всю жизнь забывал свои личные интересы, бескорыстно репетируя с артистами новые произведения Гуно, Рейе, делая за ничтожную сумму переложения сочинений Тома, пропагандируя оперы Сен-Санса, — что эти друзья его предали. Он ответил Сен-Сансу: «Эти три строчки, подписанные художником и благородным человеком, каким ты являешься, безмерно утешили меня в оскорблениях Комметанов, Лозьеров и прочих задниц. Ты сделал меня гордым и счастливым, и я обнимаю тебя от всего сердца».
Бизе не был близок с французским поэтом, драматургом, литератором и критиком Теодором де Банвилем — одним из немногих, кто дал о «Кармен» положительный отзыв. Но он написал Банвилю: «Милостивый государь и дорогой мэтр… Не знаю, как отблагодарить вас за очаровательную статью, которую вы посвятили «Кармен». Я очень горжусь, что смог вдохновить такую восхитительную фантазию».
«Комическая Опера, — писал в этой статье Банвиль, — театр традиционный, театр добродетельных разбойников, томных барышень, любви на розовой воде, атакован, изнасилован, взят в осаду бандой разнузданных романтиков с г-ном Дю-Локлем во главе; в ней вагнерист Жорж Бизе, неистово отказывающийся выражать чувства с помощью песенок, построенных на танцевальных мотивах; в ней также Мельяк и Галеви, которые стремятся построить нечто такое, что выше и лучше самых высоких мельниц; и, наконец, мадам Галли-Марье, которая взяла на себя миссию воплотить поэзию Гете, Мюссе, типы Миньон и Фантазио — в месте, наиболее восстающем против поэзии… Нужно, чтобы была Севилья… таверна, утопающая в алоэ, розовом лавре и сигаретном дыму… Убитая, плавающая в собственной крови Кармен — непостоянная, подгоняемая вдохновляющей ее Музой… Как всякую дерзкую инициативу взбунтовавшихся, их не встречают открытые двери… Если не предпринять мер предосторожности, они, чего доброго, развратят наш второй музыкальный театр, такой нежный и столь наивный когда-то… Г-н Бизе — один из тех честолюбцев, для которых… музыка даже в театре должна быть не забавой, не возможностью провести приятный вечер, но божественным языком, выражающим ужас, безумство, стремление к небу тех, кто здесь, внизу — лишь прохожий и узник.