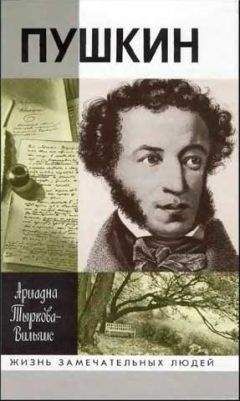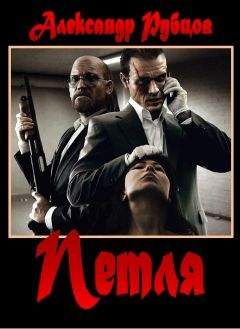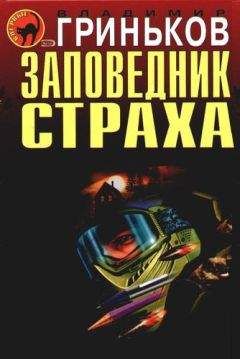Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824
В Кишиневе он волочился по очереди за всеми местными красавицами. «Пушкин любил всех хорошеньких, – рассказывает Липранди, – всех свободных болтуний… Но… ни одна из всех бывших тогда в Кишиневе не могла порождать в Пушкине ничего, кроме временного каприза».
Это подтверждают самые памятливые свидетели увлечений и волнений поэта – его стихи. За два с лишним года жизни в Кишиневе он часто писал о печалях и радостях любовных. Но местные красавицы вызывали его только на шуточные стихи.
В то время дурачества были в моде среди молодежи, даже в столицах, где сдерживающего начала было больше, чем в глухом молдаванском городе, с его пестрым полудиким обществом. Пушкин повесничал в Кишиневе, пожалуй, не больше, чем в Петербурге, но был больше на виду. «Пугая сонных молдаван», он доставлял немало хлопот «смиренному Иоанну», как называл он Инзова. О его проказах в Кишиневе сохранились рассказы. То стащит у молдаванской куконицы туфли, пока она, разувшись при гостях, сидит на диване, поджав под себя ноги. То покажется на гулянии, наряженный сербом, молдаванином, евреем. Или, к ужасу чистой публики, пустится плясать на площади джок под кобзу. Раз выскочил на улицу без шляпы, что казалось верхом неприличия. Но шляпу пришлось оставить в трактире, в залог за выпитое вино, за которое нечем было заплатить, так как деньги все он проиграл в карты. Другой раз днем Пушкин увидал в окно хорошенькую женскую головку и, недолго думая, въехал верхом в чужой дом. Был у Инзова попугай. Пушкин научил его браниться по-румынски. К генералу с пасхальным визитом приехал архиерей. Попугай осыпал его румынской бранью[50]. «Инзов… с свойственной ему улыбкой и обыкновенным тихим голосом своим сказал Пушкину: «Какой ты шалун! Преосвященный догадался, что это твой урок». Тем все и кончилось» (Липранди).
Шалости, подчас переходящие в настоящее озорство, в Кишиневе сходили Пушкину с рук. Выручали приятели. Прикрывал Инзов. И судьба еще берегла. Даже бесчисленные кишиневские дуэли неизменно кончались благополучно.
Пушкин был человек очень храбрый. В его горячем теле, стремительном, гибком и сильном, жила потребность риска и борьбы, влечение к военному делу, восхищение подвигом. Мечты о воинских подвигах постоянно врывались в его штатскую жизнь. Еще лицеистом он задавал дядюшке Василию Львовичу вопрос:
Неужто верных муз любовник
Не может нежный быть певец
И вместе гвардии полковник?
Скупость отца заставила его выйти из Лицея не в полк, а в канцелярию. Два года спустя он опять пытался перейти из Коллегии иностранных дел в полк, говорил об этом с генералом А. Ф. Орловым. Посвятил ему воинственное послание:
…Когда ж восстанет
С одра покоя Бог мечей
И брани громкий вызов грянет,
Тогда покину мир полей;
Питомец пламенной Беллоны
У трона верный гражданин!..
В шатрах, средь сечи, средь пожаров,
С мечом и с лирой боевой,
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.
На юге это стремление к военным подвигам подогревалось всей обстановкой. Психология боевой жизни была там ближе, понятнее. Штатский Пушкин жил среди военных, слушал их рассказы о походах; и на Кавказе, и в Бессарабии наблюдал их то боевую, то полупоходную жизнь. А тут еще вспыхнуло восстание в соседних Румелийских землях, появились на улицах раненые четники, город наполнился греческими повстанцами и беженцами. Молодежь волновалась. Ждали, что Александр вступится за греков, что будет война с Турцией. Пушкину так хотелось принять в ней участие, что он даже готов был не проситься больше на север: «Если есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня в Бессарабии» (21 августа 1821 г.).
Надежды и мечты военных либералов, что Царь поведет их с мечом в руке освобождать балканских христиан, Пушкин поэтически и патетически изложил в стихотворении, которое так и назвал – «Мечта воина»[51].
Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести,
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей!
Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!
Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений!..
Но Александр обманул их ожидания и бранных знамен не поднял. Война не была объявлена. Свирепый жар «героев» и «смерти грозной ожиданье» Пушкину суждено было познать не в опьяняющей обстановке боя, а в самолюбивой приподнятости задорных поединков.
«Пушкин никому не уступал в готовности на все опасности. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах; лицо его краснело и изображало радость узнать какой-либо особенный случай самоотвержения; глаза его блистали, и вдруг часто он задумывался. Не могу судить о степени его славы в поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным…» (Липранди).
Штатский Пушкин всецело разделял уверенность своих военных приятелей, что честь надо защищать с оружием в руках. То были времена, когда чувство собственного достоинства требовало умения драться, когда дуэль была пробным камнем для гордости, для чести человека, для его пригодности к порядочному обществу. Кроме того, Пушкина влекло к поединкам тайное любопытство: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю…» Он шел на поединок спокойно, с улыбкой, иногда и с шуткой. Липранди, который много видал дуэлей, «таких натур, как Пушкин, мало видал… Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до исступления; но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным как лед… К сему должно присоединить, что первый взрыв его горячности не был недоступным для его рассудка».
Трудно сосчитать, сколько раз затевались у Пушкина в Кишиневе дуэли. Вероятно, раз десять, если не больше. Не он один готов был любое столкновение, ссору, даже простое недоразумение разрешать пистолетным выстрелом. У офицеров было облюбовано для дуэлей постоянное место. «Верстах в двух от Кишинева, на запад, есть урочище посреди холмов, называемое Малиной – только не от русского слова малина, – рассказывает А. Ф. Вельтман, кишиневский знакомец Пушкина, – здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаем «полю». Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по извивающейся между виноградными кустами тропинке. На лугу под сенью яблонь и шелковиц, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платье и становятся на место. Здесь два раза «полевал» и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного «поля» и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время, как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах».