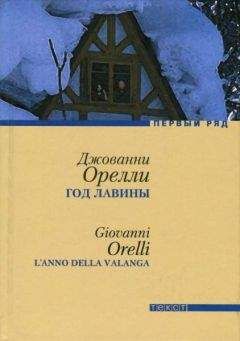Ирина Муравьева - Жизнь Владислава Ходасевича
«Я оставила в квартире все, как было. Я взяла два ящика своих книг и книжную полку, два чемодана с платьями и бельем и ящик с бумагами. Все кругом продолжало стоять, как если бы ничего не случилось: петух на чайнике, мебель и мелочи, лампа и диван, гравюры старого Петербурга, которые я когда-то купила в Латинском квартале на его карточный выигрыш. Он стоял у открытого окна и смотрел вниз, как я уезжаю. Я вспомнила, как, когда я снимала эту квартиру, я подумала, что нам опасно жить на четвертом этаже, что я никогда не буду за него спокойна. Но его внимание было в последние дни обращено в другую сторону: нынче днем он сказал мне, зайдя на кухню (где я варила ему борщ на три дня):
— Не открыть ли газик?
Теперь, в открытом настежь окне, он стоял, держась за раму обеими руками, в позе распятого, в своей полосатой пижаме.
Был конец апреля 1932 года».
Что думал он в эту минуту, в шестом часу утра, стоя в открытом окне и глядя сверху, с четвертого этажа, на маленькую фигурку женщины, садившейся в такси, а перед этим помахавшей рукой и бросившей на него прощальный взгляд? Что уходит последняя надежда? Он сроднился с нею, он все еще любил ее и восхищался ею, несмотря на прошедшие со дня их встречи десять лет. Он привык рассчитывать на ее поддержку, искал у нее утешения и успокоения от всех своих страхов. Так важно, чтобы было кому пожаловаться на жизнь. Он любил просто любоваться ею, слушать ее голос. Теперь он оставался один в «своем аду» (по выражению Берберовой). Но он давно предчувствовал это интуитивно, стараясь не думать, не доводить свои предчувствия до уровня сознания… Потом он, возможно, сел за стол и машинально начал есть борщ, приготовленный Ниной, — в шестом часу утра. Потом первое ошеломление прошло, и он, возможно, отправился погулять, вышел на еще пустынную утреннюю улицу…
В своем «Камер-фурьерском журнале» он в этот день не записал ничего, кроме:
«26. Втор<ник>. В 5 ч<асов> 10 мин<ут> Н<иник> уехал».
Под этой записью — две длинные черты, словно закончена глава книги или стихотворение. Или целая жизнь.
Ходасевич сохранил с Берберовой дружеские отношения — он продолжал ее любить и не мог с ней расстаться насовсем. Вот что он пишет ей летом этого же, 1932 года из пансиона в Арти, местечке под Парижем:
«Я приехал сюда вчера, милый Ниник, и получил твое письмо. Очень рад, что тебе посчастливилось в рассуждении отдыха. Вероятно, и я здесь отчасти приду в себя. <…>
Здоровье мое терпимо. Настроение весело-безнадежное. Думаю, что последняя вспышка болезни и отчаяния были вызваны прощанием с Пушкиным. Теперь и на этом, как и на стихах, я поставил крест. Теперь у меня нет ничего. Значит, пора и впрямь успокоиться и постараться выуживать из жизни те маленькие удовольствия, которые она еще может дать, а на гордых замыслах поставить общий крест.
<…> Целую тебя. Обо мне не тревожься. Денежные дела улажу, а иных у меня кажется нет».
За скобками остается то, что у него теперь нет и ее, Нины. Впрочем, он еще долго надеялся, что она одумается и вернется.
Письмо это, видимо, сильно огорчило Нину. Ее письма не опубликованы, но вот ответ Ходасевича от 23 июля 1932 года, в чем-то отражающий и ее письмо:
«Милая Нина, ты, конечно, права — мне нужно привести себя в порядок. За пять дней артийских (то есть проведенных в Арти. — И. М.) я многое обдумал и твердо решил внести ряд существенных изменений в свою жизнь. Это, разумеется, принесет добрые плоды. На сей счет будь спокойна, — впрочем, я очень рад, что ты, наконец, решила обо мне не тревожиться. Это как раз то, что требуется. В отношении причин, из-за которых у нас все „треснуло“, ты не права. Истинные и основные причины, как ты сама знаешь, совсем не те. Но это вопрос академический — практического значения не имеет.
„Крест“ на Пушкине значит очень простое: в нынешних условиях писать его у меня нет времени. Нечего тешить себя иллюзиями. Но, с другой стороны, условия могут измениться — никто не помешает мне ими воспользоваться. Это тем более, что отныне (согласен — поздненько) я буду жить для себя и руководствоваться своими нуждами».
Остались «маленькие удовольствия», маленькие радости жизни, о которых он писал в предыдущем письме и о которых Берберова напишет потом в своем некрологе: «Ничто внешнее, ни внутреннее ощущение не давало ему настоящей радости, не давало ему утешения. Лишь в самое последнее время, словно миря его с миром и оправдывая, напророченные им когда-то в стихах:
Цветок, ребенок, зверь
стали наполнять его душу печальным и горьким счастьем». Все-таки «печальные радости» были: общение с кошками, которых он так любил, и какие-то чужие дети (есть его снимок с неизвестной девочкой), и цветы, которых много в Париже… И преданная Ольга Марголина, милая, тихая, хорошенькая женщина из Петербурга родом.
Но он еще года два в душе надеялся на возврат Нины.
Однажды — это было уже весной 1933 года — «Ходасевич постучал ко мне. Он пришел спросить в последний раз, не вернусь ли я. Если не вернусь, он решил жениться, он больше не в силах быть один.
Я бегаю по комнате, пряча от него свое счастливое лицо: он не будет больше один, он спасен, и я спасена тоже. <…> Теперь и я могу подумать о своем будущем, он примет это спокойно».
Ходасевич собрался наконец жениться на Ольге Марголиной, с которой познакомился в пансионе «Шателе» в небольшом городке Сан-Илер — Сан-Месмен в департаменте Луарэ, где жил летом. Она отдыхала там вместе с сестрой Марианной.
«Я, душенька, не кручу сердец, — писал Ходасевич Берберовой оттуда 5 сентября 1932 года в ответ на ее слегка ироническое пожелание успеха с Ольгой Марголиной. — Я обедаю, ужинаю, пью чай-кофей, а также играю в покер (рекорд: 6 сеансов — ни одного проигрыша, 50 фр<анков> чистой прибыли). Немножко гуляю. Ездил с Марголиными на автомобиле в Olivet: чудная дорога, а там кафе над самой водой (густозеленой), лодки с флагами и берега кудрявые, как парикмахер из Гомеля».
Женщины все-таки льнули к Ходасевичу, несмотря на его «трупный», по словам Святополка-Мирского, вид: он пленял их своим непревзойденным остроумием, тонким язвительным умом в сочетании с ласковостью и почтительностью по отношению к ним. «Фельзен, считавшийся тогда специалистом по психологическому роману, — вспоминал прозаик Василий Яновский, — объяснял нам, что есть такой тип мужчин: они наедине с женщинами становятся вдруг очаровательными, и тут ни наружность, ни возраст, ни положение, ни капитал роли не играют».
Ольга Марголина была женщиной тихой и скромной, глубоко верующей — она пережила еще в Петербурге какое-то особое озарение, когда случайно зашла лет четырнадцати в церковь. Она крестилась в православие уже после смерти Ходасевича. «У нее были большие серо-голубые глаза и чудесные ровные белые зубы, которые делали ее улыбку необычайно привлекательной», — писала о ней Берберова. Она, безусловно, облегчила последние годы жизни Ходасевича. В письмах к Берберовой он пишет о ней мало, в основном передает приветы от нее. 24 ноября 1935 года он, правда, сообщает: «Милый Ниник, я по тебе соскучился, а признаков жизни не подавал потому, что жил очень трудно, по совести говоря — плохо: руки отчаянно разболелись (видимо, опять фурункулез. — И. М.), денег так мало, что даже смешно. Оля тоже хворала, ей резали руку, так что у нас вообще сейчас на двоих — одна рука здоровая. В хозяйстве это опять же комично». И из этой грустной картинки возникает ощущение семейной теплоты и взаимопомощи…