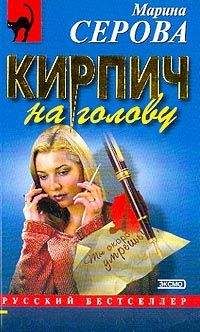Лидия Иванова - Воспоминания. Книга об отце
Сло́ва «мэтр» я всегда не выносил, но надо сказать, что Вячеслав Иванович к облику некоего наставника в глубоком смысле действительно подходил. Человек был великой учености, ученик знаменитого Моммзена и крупнейшего филолога немецкого Вилламовиц — Меллендорфа. Знал древность насквозь, всех Дионисов и религии тех лет, и поэзию, литературу — да и в нашей литературе был великий знаток, о Достоевском «глаголаше премудро». И главное, вкусом обладал благородным.
Жизнь он вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой самой «башне» (! — тоже снобизм) и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот и не зря смотрели: от него действительно можно было чему‑то научиться. Да и вообще, я уж об этом упоминал — собеседник он был исключительный.
Раз, в 1908 г., был я к нему приглашен не на собрание, а как бы давалась аудиенция с глазу на глаз. Тогда только что вышла повесть моя «Аграфена», вызвавшая в печати и бурные похвалы, и бурную брань. Из‑за нее он и позвал меня, через Чулкова.
Я пришел часу в седьмом вечера, он забрал меня, увел к себе в кабинет — и вот начался разбор этой «Аграфены» чуть не строчка за строчкой — спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это часа полтора. Тут и почувствовалось, насколько предан этот человек литературе, как он ею, действительно, живет, какая бездна у него понимания и вкуса. Отнять литературу, он бы и зачах сразу. Я был молод, но не гимназист, а уже довольно известный писатель, но чувствовал себя в этот вечер почти гимназистом. Не таким, однако, кому инспектор долдонит что‑то начальственное, а как младший в руках благожелательного, много знающего, но не заискивающего и не боящегося говорить правду старшего. Трудно вспомнить больше чем через полвека, что именно он говорил, но вот это впечатление благожелательного наставничества, не обидного, сочувственного и не дифирамбического, видящего и свет и тени, так и осталось в душе.
Какая там «башня», какой «мэтр», просто замечательный Вячеслав Иванович Иванов.
* * *На вечерах его многолюдных я бывал редко. Понятно, не Горький, не Бунин и не Куприн посещали его, а совсем другие: Блок, Кузмин, Городецкий, Чулков, Ремизов, Пяст, Верховский и еще море юнцов, художники «Мира искусства». Читались стихи, разбирались — все как полагается. Но это нравилось меньше: мешала манерность и театральность. Отчасти и сам хозяин ей поддавался.
«Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой». Быстро все это пронеслось. Войны, революция все перебуравили. Подкрашенный Кузмин со своими Александрийскими песнями погибал в Петербурге в убожестве. Городецкий приспособился и проскочил, Вячеслав Иванов, Чулков перебрались в Москву, и уж там не до «башен» и снобистских собраний.
Жил Вячеслав Иванович на Зубовском бульваре, работал в каком‑то литературном учреждении, кажется, «Лито» называлось. Луначарский, как более грамотный из «них», его поддерживал, покровительствовала и жена Каменева.
Как будто начинали сбываться давнишние его месты — учения о «соборности», конце индивидуализма и замкнутости в себе — но именно только «как будто». Вот от этой самой соборности он только и мечтал куда‑нибудь «утечь».
На Зубовский бульвар жена моя носила молоко его грудному тогда сыну Диме (ныне известный французский журналист) — не так просто было и доставлять это молоко. Но сын, слава Богу, выжил, несмотря на соборность.
Здравый же смысл все‑таки взял у «мэтра» верх: в 1921 г. Вячеслав Иванов со всей семьей уехал в Баку, читал там лекции по классической филологии, но в 1924 г. «утек» в Италию. Это гораздо оказалось прочнее, чем разные Азербайджаны и Баку. Да, Италия более подходящее место для Вячеслава Иванова, чем Кавказ.
В Риме он выступил с публичной лекцией по — итальянски. Слышавшие говорят, что читал превосходно, рассыпая всю роскошь старинного, даже старомодного итальянского языка. Видимо, это сразу дало точку опоры, завязались связи и он был приглашен читать в Павии, а потом стал профессором Римского Университета.
Тут долгое время никакой у меня связи с ним не было. Только раз, в тридцатых годах, я послал ему свою книжечку «Валаам». Его ответное письмо покоится теперь в Архиве Колумбийского университета в Нью — Йорке. (А в отделе редких книг быв. Румянцевского музея в Москве хранятся мои книги с надписями Вячеславу Иванову.)
* * *В 1949 году наш приятель — ныне покойный А. П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, некий конквистадор и по жизни своей «Казанова» — нежданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию.
— У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку, но вывезти не могу — проживем их вместе. Со мной едет одна испанка, восходящая звезда испанского синема. Билеты берите сами, жизнь там ничего вам не будет стоить.
Предложение заманчивое. Поколебавшись, поблагодарили и согласились. Съехались в Ницце — Анита из Мадрида, мы из Парижа, Казанова в Ницце уже заседал. Нас смущало, при неблестящем складе быта нашего, соседство «дивы», но Анита оказалась милейшей и простой юной женщиной, сразу подружившейся с моей женой. Началось наше blitz‑tournée. Оно — смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по Северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции. Казанова то получал деньжонки из банка, раздавал их нам и Аните, то проигрывался в местных казино и занимал вновь у Аниты, но настроение было бодрое и веселое. Теперь мы летели к Риму. Там у Аниты были дела по кино.
Во Флоренции оказалось, что денег в обрез. У нас с женой были обратные билеты. Я сказал Казанове:
— Поезжайте с Анитой, а мы вернемся.
Он даже рассердился.
— Я вам сказал, что довезу до Рима. Я возил труппу лилипутов на Формозу, неужели не смогу довезти вас с Верой до Рима? Но увы, можно будет остаться всего день.
Помчались. Да, это был всего один день! Мы успели побывать в Ватикане, а после завтрака в кабачке у берниниевской колоннады, поехали к Вячеславу Иванову, на Авентин.
Авентин моей молодости был еще таинственно — поэтическим местом Рима. Тянулись сады, огороды, заборы.
Рядом с грядками капусты попадались низины, сплошь заросшие камышом. Я любил светлые, задумчивые вечера на Авентине, когда звонят Angelus, прощально золотеют стекла Мальтийской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсиновых деревьев с яркими и сочными плодами. Как на райских деревцах старинных фресок.
Тут жили некогда родители Алексея Человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность, и сюда вернулся неузнанным.