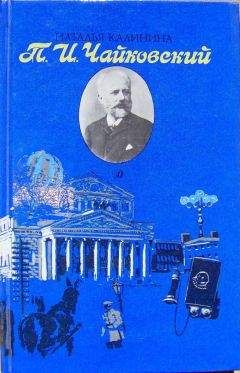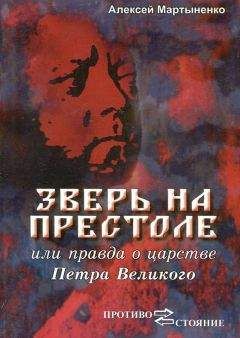Виктор Кондырев - Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев – Париж. 1972–87 гг.
Фаина Израилевна, милая и чуточку жеманная, была одета в этот раз в чёрное длинное платье с маленьким белым воротничком. Красиво причесалась, в общем, выглядела нарядно.
– Малый театр! – рассмотрев гостью поближе, вскричал В.П. – Сущая Мария Ермолова! Становитесь сюда, Фаина, сейчас я вас отщёлкаю!
Её заставили сцепить пальцы, откинуть голову, изобразить обаятельную улыбку. Вика крутил натурщицу и так и этак, делал снимки. Рукопись он с облегчением вернул, пообещал написать о ней после, якобы ему надо собраться с мыслями. Позже был дан совет продолжать писать стихи, не распыляться на пустяки, на прозу и всё такое…
Если Вовочку Загребу наш писатель любил, то Анатолия Вугмана – обожал.
Живущий в Женеве Тоша в душе и в жизни был поэтом. Писал чудные стихи, слагал песни и пел их под гитару. Предварительно выпив, что придавало исполнению проникновенность, а голосу – бархатистость.
Лира не помешала ему стать в эмиграции потрясающим компьютерщиком. До женитьбы любимец бесчисленных женщин, после свадьбы – как отрезало. По его словам. Прирождённый острослов, чрезвычайно чуткий и компанейский человек, любимый и почитаемый друзьями, Тоша Вугман до сих пор остаётся таким же каламбуристом, всеобщей женской симпатией, хлебосолом и разлюбезным нашим другом.
Кажется, в восьмидесятом году, приехав однажды из Женевы, Вика впервые расписал и расхвалил нового знакомого по имени Тошка. Позже тот прикатывал в Париж множество раз, и всегда В.П. радовался встрече, внимая его неугомонному остроумию.
В один из его приездов, хлопнув по стопке на некрасовской кухне, мы с Тошей уселись в гостиной в ожидании хозяина. Тот вернулся с прогулки вместе с Вовочкой Загребой.
То была пора, когда Вовочка утверждал, что не любит, когда ругаются матом. Что для нас с Тошей, людей бессердечных и брутальных, было абсолютно непонятно. Подозревали, что он, по укромным причинам, прикидывается недотрогой. Зачем – неизвестно, ломали голову мы.
Девичья скромность приятеля веселила и Вику. Вполне естественно, что мы с Тошей, не успев поздороваться со скромнягой, перешли чуть ли не на сплошной мат, смягчаемый солдатскими шутками. Вика слегка жалел Вовочку, а тот как бы конфузился и пожимал плечами, дескать, ему это безразлично. А уж мы изгалялись, как могли. Дураки, что с нас взять!..
Кто поверил бы тогда, что смущающийся Вовочка, смахивающий своими невинно хлопающими глазами на оленёнка Бэмби, через десяток лет сочинит, смастерит и опубликует на свой кошт славный сборничек матюкливых четверостиший, малопристойных сентенций и нескладух? Вика не поверил бы точно, да и мы с Тошей были удивлены такими взбрыками. Но главное – Вовочка будет как бы разоблачать Виктора Платоновича, открывать глаза на некие одному ему известные, как бы потайные нюансы… Вот тебе и эмигрантские душевные изломы, вмятины и трещины, вздыхаем мы с Тошей…
Под Новый год, как всегда, мы с Милой зашли к нашим на седьмой этаж, поздравить. Парадно наряженные, естественно.
– Ну, ты сегодня вылитый портрет Дориана Грея! – заулыбался В.П.
– Почему вылитый? – польщённо отшучивался я. – Выпитый! Мы ничего не выливаем!
– Ох, остряк, остряк! – посмеивался В.П. – Куда направляетесь?
Мы направлялись к Зелениным вместе с Тошей Вугманом и скрипачом-виртуозом Александром Баранчиком.
Некрасов пару раз заезжал в гости к Саше в Амстердам. Любил его за компанейский характер, чудесную улыбку и талант. Сашина жена Оля, тоже скрипачка, подпадала под радующую душу Некрасову категорию «мировых баб».
Баранчик сразу вошёл в наше сердце, когда ответил Некрасову, что сегодня, мол, идти на его концерт не стоит, сплошная глухая муда. А вот завтра будет совсем наоборот…
На жаргоне лабухов «глухая муда» – это когда все скрипки оркестра долго и старательно выпиливают плавную музыку. Ну а если вдруг музыканты начинают суетливо елозить смычками по струнам, вроде захлёбываются, заходятся в высоких нотах, – это называется «гусиный вздроч».
Некрасов, и мы вместе с ним, выражение это – «глухая муда и гусиный вздроч» – употреблял часто и с чувством во многих жизненных ситуациях, особенно описывая бурлящую и булькающую парижскую эмигрантскую жизнь. Либо когда делился впечатлениями о встрече или зрелище. Мол, посидели ничего, но гости слишком уж галдели, явный гусиный вздроч! Ну а выставка – глухая муда, двух мнений быть не может…
Ни с того ни с сего Вика позвал на вернисаж. Туманно добавил, что одобрение снискает тот, кто подмешивает полезное к сладостному. Я насторожился – при чём тут сладостное, уж не задумал ли писатель какого-либо алкогольного подвоха? Но В.П. успокоил: ему просто надо написать передачу для радио, это и есть полезное зерно культурной акции. А о сладостном, мол, он сказал из врождённой утончённости, как-никак предстоит окунаться в искусство.
Искусство, на беду, оказалось абстрактным. Вернисажились три эмигрантских художника. На осмотр всех картин ушло примерно секунд сорок. Все без исключения приглашённые на картины более или менее плевали и ждали, собственно, кульминации праздника изящного искусства, то есть бесплатной выпивки.
На эмигрантском вернисаже присутствовал и копошился всякий богемный и безымянный люд – художники, певцы, артисты и просто персонажи без особого таланта, обычно называвшие себя стилистами. Обязательно отирался и бесхитростный питерский литератор, убеждавший знакомых, что он эксперт по живописи. Простодушный Виктор Платонович готов был этому поверить.
Некрасова вовсю обхаживала организаторша вернисажа – обеспокоенная неизвестно чем женщина во взъерошенной одёжке, напоминавшая изнасилованного подростка.
Случайный посетитель, не испорченный современной культурой эмигрант, искал общения. Наткнулся на питерца, который только что закончил осмысление полотна невнятного цвета, разлинованного в косую линейку.
– А вы какого сословия будете? – учтиво вступил в разговор эмигрант.
Питерец осторожно, как со стаканом на голове, повернулся к нему и чуть обиделся:
– Я писатель. Разве не видно?
– Не видно, – извинился простоватый собеседник.
Питерский писатель надменно направился к двум товарищам по сословию, со знанием дела заглатывающим дармовое красное вино. Третий – поэт, неизвестно зачем бросивший пить, – стоял без дела и чувствовал себя идиотом. Его опасались, как залеченного сифилитика. А он, мятежный, приставал со стихами:
Не забуду твой тающий рот
И глаза твои синие-синие!
Ты же вспомнишь лишь баночку шпрот
И моё половое бессилие.
– Ну, как? – спрашивал сочинитель. – Пробирает? Я вообще-то мистик, но иногда грешу городской эротикой…